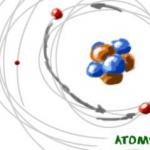Страна наша всегда была богата на талантливых людей, среди которых и люди науки, и творческие люди. Среди талантов, мы выделяем писателей, которые сделали огромный вклад как в развитие литературы, так и совершали колоссальную народную поддержку, поднимая актуальные вопросы или же погружая в мир чувственности и эмоций. Изучая писателей, мы начинаем лучше понимать их произведения, их жизнь и цели. Среди поэтов двадцатого века, сегодня остановимся на биографии Осипа Мандельштама, его творчестве, и интересных фактах из жизни поэта.
Осип Мандельштам был литературным критиком, переводчиком, но самое главное, это один из знаменитых поэтов 20 века, что оставил нам богатое литературное наследие. Его произведения затрагивают все струны человеческой души. Это поэт со сложной судьбой, чью жизнь мы рассмотрим, изучая факты из биографии и творчество Мандельштама кратко.
Родился поэт в Варшаве в еврейской семье купца в конце девятнадцатого века. Это произошло в 1891 году. В Варшаве семья Мандельштамов живет недолго и уже в 1887 году они в Петербурге, где Осип получает свое первое образование. Окончив училище, он слушает лекции в Петербургском университете. Но занятия оказались непродолжительными, ведь Мандельштам едет во Францию, где поступает в престижное учебное заведение. Он учится в Сорбонне. Уже в это время Осип стал проявлять интерес к литературе, посещая лекции Бедье и увлекаясь творчеством Верлена и Бодлера. Однако он не смог окончить Сорбоннский университет, по причине разорения его родителей. Приходится ехать обратно в Петербург, где поступает в университет на историко-философский факультет. Но к учебе Осип уже не проявляет интереса, учится плохо и не заканчивает курс обучения.
Продолжая изучать биографию Мандельштама, перейдем к его творческой деятельности. Как уже говорилось, еще во Франции он стал пробовать писать, открыв для себя направление символизма. Он пишет, заводит знакомства среди таких же писателей символистов, где был и Гумилев. Познакомился с Ахматовой, Цветаевой и другими. Его стихи печатаются, делая поэта известным.
Первый сборник стихов Мандельштама вышел в 1913 году, а с 1914 года он уже активный участник литературного общества. Писатель сотрудничает с разными издательствами, газетами.
Поездка в 1919 году в Киев стала судьбоносной, ведь там он встретил будущую жену Хазину. Но свадьба произойдет в 1922 году, а пока впереди гражданская война и годы скитаний по странам, но все равно писатель остается верен России.
В годы революции и гражданской войны Мандельштам продолжает дарить читателям свои работы. Все эти стихотворения входят в сборник Tristia. В это же время вышли сборники Вторая книга, автобиографическая повесть Шум времени и повесть Египетская марка.
В 1928 году Мадельштам пишет последние книги в своей жизни. Это были работы под названием О поэзии и Стихотворения.

1938 год — это последний год в жизни поэта. Пребывая в пересыльном лагере в окрестностях Владивостока, писатель умирает от тифа.
В биографии Мандельштама имеется много интересных фактов. Например, его первой любовью была художница Зельманова-Чудовская, которой поэт так и не написал ни одной строчки по причине отсутствия вдохновения.
Поэт не был на фронте в годы Первой мировой, хоть и рвался на защиту страны. Помешало уйти на войну заболевание. У него была обнаружена сердечная астения.
Несмотря на то, что он учился в двух университетах, однако ни один их них не окончил.
Мандельштам был влюбчивым. Среди его избранниц была и Цветаева. Об этих отношениях говорили многие. Разрыв же с девушкой приводит к мысли о монастыре.
Поэтика Мандельштама прекрасна тем, что застывшие слова и предложения, под влиянием его пера превращаются в живые и чарующие зрительные образы, наполненные музыкой. О нём говорили, что в его поэзии оживают "концертные спуски шопеновских мазурок" и "парки с куртинами Моцарта", "нотный виноградник Шуберта" и "низкорослый кустарник бетховенских сонат", "черепахи" Генделя и "воинственные страницы Баха", а музыканты скрипичного оркестра перепутались "ветвями, корнями и смычками".
Грациозные сочетания звуков и созвучий сплетаются в изящную и тонкую мелодию, незримо переливающую в воздухе. Для Мандельштама характерен культ творческого порыва и удивительная манера письма. "Я один пишу с голоса", - говорил о себе поэт. Именно зрительные образы изначально возникали в голове у Мандельштама, и он начинал их беззвучно проговаривать. Движение губ рождало спонтанную метрику, обраставшую гроздьями слов. Многие стихи Мандельштама написаны "с голоса".
Иосиф Эмильевич Мандельштам родился 15 января 1891 года в Варшаве в еврейской семье купца, мастера перчаточного дела, Эмилия Мандельштама, и музыканта, Флоры Вербловской. В 1897 году семья Мандельштамов переехала в Петербург, где маленького Осипа отдали в российскую кузницу "культурных кадров" начала ХХ века - Тенишевское училище. По окончании училища в 1908 году молодой человек отправился учиться в Сорбонну, где активно изучал французскую поэзию – Вийона, Бодлера, Верлена. Там же он познакомился и сдружился с Николаем Гумилёвым. Параллельно Осип посещал лекции Гейдельбергского университета. Приезжая в Петербург он посещал лекции по стихосложению в знаменитой "башне" у Вячеслава Иванова. Однако семья Мандельштамов постепенно начала разоряться, и в 1911 году пришлось оставить обучение в Европе и поступать в Петербургский университет. Для евреев в то время существовала квота на поступление, потому пришлось креститься у методистского пастора. 10 сентября 1911 года Осип Мандельштам стал студентом романо-германского отделения историко-филологического факультета Петербургского университета. Однако он не был прилежным студентом: много пропускал, делал перерывы в обучении, и так и не окончив курса, покинул университет в 1917 году.
В это время Мандельштама интересовало нечто другое, чем изучение истории, и имя этому было – Поэзия. Вернувшийся в Петербург Гумилёв постоянно приглашал юношу в гости, где он в 1911 году познакомился с Анной Ахматовой . Дружба с поэтической четой стала "одной из главных удач" в жизни молодого поэта, по его воспоминаниям. Позже он познакомился с другими поэтами: , Мариной Цветаевой. В 1912 году Мандельштам вошёл в группу акмеистов, регулярно посещал заседания Цеха поэтов.
Первая известная публикация состоялась в 1910 году в журнале "Аполлон", когда начинающему поэту было 19 лет. Позже он печатался в журналах "Гиперборей", "Новый Сатирикон" и других. В 1913 году вышла дебютная книга стихов Мандельштама "Камень" , переиздававшаяся затем в 1916 и 1922 годах. Мандельштам находился в центре культурной и поэтической жизни тех лет, регулярно бывал в пристанище творческой богемы тех лет, арт-кафе "Бродячая собака", общался со многими поэтами и писателями. Однако прекрасный и таинственный флёр той эпохи "безвременья" вскоре должен был развеяться, с началом Первой мировой войны, а затем с приходом Октябрьской революции. После неё жизнь Мандельштама была непредсказуема: он больше не мог ощущать себя в безопасности. Были периоды, когда он жил на подъёме: в начале революционной поры работал в газетах, в Наркомпросе, ездил по стране, публиковался, выступал со стихами. В 1919 году в киевском кафе "Х.Л.А.М" он встретил свою будущую жену, молодую художницу, Надежду Яковлевну Хазину, с которой в 1922 году заключил брак. В то же время вышла вторая книга стихов "Tristia" ("Скорбные элегии") (1922), включавшая произведения времени Первой мировой войны и революции. В 1923 году - "Вторая книга", посвящённая жене. Эти стихи отражают беспокойство от этого тревожного и нестабильного времени, когда бушевала гражданская война, и поэт с женой скитались по городам России, Украины, Грузии, а его успехи сменялись неудачами: голодом, нищетой, арестами.
Чтобы зарабатывать на жизнь, Мандельштам занимался литературными переводами. Не забрасывал он и поэзию, более того стал пробовать себя в прозе. В 1923 году вышел "Шум времени", в 1927 году - "Египетская марка", а в 1928 году – сборник статей "О поэзии". Тогда же, в 1928 году, был выпущен сборник "Стихотворения", ставший последним прижизненным поэтическим сборником. Впереди писателя ждали нелёгкие годы. Сперва Мандельштама спасало заступничество Николая Бухарина. Политик ратовал за командировку Мандельштама на Кавказ (Армения, Сухум, Тифлис), однако напечатанное в 1933 году по мотивам поездки "Путешествие в Армению" было встречено разгромными статьями в "Литературной газете", "Правде" и "Звезде".
"Начало конца" начинается после написания отчаявшимся Мандельштамом в 1933 году антисталинской эпиграммы "Мы живём, под собою не чуя страны…", которую он зачитывает перед публикой. Среди них находится некто, кто доносит на поэта. Поступок, названный Б.Пастернаком "самоубийством" приводит к аресту и ссылке поэта с супругой в Чердынь (Пермский край), где доведённый до крайней степени эмоционального истощения Мандельштам выбрасывается из окна, однако его вовремя спасают. Только благодаря отчаянным попыткам Надежды Мандельштам добиться справедливости, её многочисленным письмам в различные инстанции, супругам позволяют выбрать место для поселения. Мандельштамы выбирают Воронеж.
Воронежские годы супругов безрадостны: их постоянным другом является нищета, Осип Эмильевич не может найти работу и чувствует себя ненужным в новом враждебном мире. Редкие заработки в местной газете, театре и посильная помощь верных друзей, в том числе Ахматовой, позволяют как-то мириться с тяготами. В Воронеже Мандельштам много пишет, но его никто не намерен публиковать. "Воронежские тетради", опубликованные уже после его смерти, являются одной из вершин его поэтического творчества.
Однако представители Советского союза писателей имели на этот счёт другое мнение. В одном из заявлений стихи великого поэта были названы "похабными и клеветническими". Мандельштама, в 1937 году неожиданно выпущенного "на волю" в Москву, вновь арестовали и отправили на тяжёлые работы в лагерь на Дальнем Востоке. Там здоровье поэта, расшатанное душевными травмами, окончательно испортилось, и 27 декабря 1938 года он скончался от тифа в лагерном пункте Вторая речка во Владивостоке.
Похороненный в братской могиле, забытый и лишённый всяческих литературных заслуг, он, кажется, предвидел свою судьбу ещё в 1921 году:
Когда я свалюсь умирать под забором в какой-нибудь яме,
И некуда будет душе уйти от чугунного хлада –
Я вежливо тихо уйду. Незаметно смешаюсь с тенями.
И собаки меня пожалеют, целуя под ветхой оградой.
Не будет процессии. Меня не украсят фиалки,
И девы цветов не рассыплют над чёрной могилой…
В своём завещании Надежда Яковлевна Мандельштам фактически отказала Советской России в каком-либо праве на публикацию стихов Мандельштама. Этот отказ прозвучал как проклятие советскому государству. Только с началом перестройки Мандельштама начали постепенно печатать.
"Вечерняя Москва" предлагает подборку красивых стихотворений замечательного поэта:
***
Дано мне тело - что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?
За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?
Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
На стекла вечности уже легло
Моё дыхание, моё тепло.
Запечатлеется на нём узор,
Неузнаваемый с недавних пор.
Пускай мгновения стекает муть -
Узора милого не зачеркнуть.
<1909>
***
Истончается тонкий тлен -
Фиолетовый гобелен,
К нам - на воды и на леса -
Опускаются небеса.
Нерешительная рука
Эти вывела облака.
И печальный встречает взор
Отуманенный их узор.
Недоволен стою и тих,
Я, создатель миров моих, -
Где искусственны небеса
И хрустальная спит роса.
<1909>
***
На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Берёзы ветви поднимали
И незаметно вечерели.
Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко,-
Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.
<1909>
***
Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой - сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая -
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.
<1909>
***
Silentium
Она ещё не родилась,
Она и музыка и слово.
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день.
И пены бледная сирень
В мутно-лазоревом сосуде.
Да обретут мои уста
Первоначальную немоту -
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!
Останься пеной, Афродита,
И слово в музыку вернись,
И сердце сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!
< 1910>
***
Не спрашивай: ты знаешь,
Что нежность безотчётна,
И как ты называешь
Мой трепет - всё равно;
И для чего признанье,
Когда бесповоротно
Мое существованье
Тобою решено?
Дай руку мне. Что страсти?
Танцующие змеи!
И таинство их власти -
Убийственный магнит!
И, змей тревожный танец
Остановить не смея,
Я созерцаю глянец
Девических ланит.
<1911>
***
Я вздрагиваю от холода -
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото -
Приказывает мне петь.
Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь,
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!
Так вот она - настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!
Что, если, вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?
<1912>
***
Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне - и чем я виноват,
Что слабых звёзд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!
<1912>
***
Бах
Здесь прихожане - дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом - Себастьяна Баха
Лишь цифры значатся псалмов.
Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?
Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик -
Лишь воркотня твоя, не боле,
О, несговорчивый старик!
И лютеранский проповедник
На чёрной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей.
<1913>
***
"Мороженно!" Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарёю,
В молочные Альпы, мечтанье летит.
Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть -
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...
Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пёстрая крышка -
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.
И боги не ведают - что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лёд.
<1914>
***
Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочёл до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
Как журавлиный клин в чужие рубежи,-
На головах царей божественная пена,-
Куда плывёте вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер - всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море чёрное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
<1915>
***
Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась,-
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?
Я хотел бы ни о чем
Ещё раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь, разбудить;
Раскидать за столом стог,
Шапку воздуха, что томит;
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.
Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон.
<1922>
***
Я вернулся в мой город, знакомый до слёз,
До прожилок, до детских припухлых желёз.
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денёк,
Где к зловещему дёгтю подмешан желток.
Петербург! Я ещё не хочу умирать!
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня ещё есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице чёрной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
<декабрь 1930>
***
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых кровей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
<март 1931>
***
О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.
Ещё обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться
И я один на всех путях.
Но не хочу уснуть, как рыба,
В глубоком обмороке вод,
И дорог мне свободный выбор
Моих страданий и забот.
<февраль 1932>
- Евреи
 Об Исааке Левитане российский писатель Григорий Горин как-то заметил: "Исаак Левитан был великим русским художником. И сам о себе так и говорил... Когда ему говорили: но ты же еврей! Он говорил: да, я еврей. И что? И ничего. Умные люди соглашались,…
Об Исааке Левитане российский писатель Григорий Горин как-то заметил: "Исаак Левитан был великим русским художником. И сам о себе так и говорил... Когда ему говорили: но ты же еврей! Он говорил: да, я еврей. И что? И ничего. Умные люди соглашались,…В любом перечислении самых влиятельных евреев не только современной истории, но и всех времен Зигмунд Фрейд должен быть назван в числе первых. Фрейд был (как охарактеризовал его Пол Джонсон в "Истории евреев") "величайшим из евреев новаторов". Такая характеристика весьма справедлива. Эрнест…
 Великий драматург и критик Джордж Бернард Шоу однажды язвительно заметил, что наряду с Иисусом и Шерлоком Холмсом Гарри Гудини был одним их трех самых известных людей в мировой истории. Колкость Шоу вполне могла соответствовать истине в период, чуть больший двенадцати лет,…
Великий драматург и критик Джордж Бернард Шоу однажды язвительно заметил, что наряду с Иисусом и Шерлоком Холмсом Гарри Гудини был одним их трех самых известных людей в мировой истории. Колкость Шоу вполне могла соответствовать истине в период, чуть больший двенадцати лет,… (род. 1923) Будучи несомненно одним из тех американцев, которые вызывали наибольшие споры во второй половине двадцатого века, Генри Киссинджер руководил внешней политикой своей страны во время эскалации вьетнамской войны и затем вывода американских войск из Вьетнама, во время вторжения в Камбоджу,…
(род. 1923) Будучи несомненно одним из тех американцев, которые вызывали наибольшие споры во второй половине двадцатого века, Генри Киссинджер руководил внешней политикой своей страны во время эскалации вьетнамской войны и затем вывода американских войск из Вьетнама, во время вторжения в Камбоджу,… (род. 1941) Сын Битти и Эйба Циммерманов Роберт Аллен родился в городе Дулуте, в штате Миннесота, перед самым вступлением Америки во Вторую мировую войну. Бобби рос в соседнем Хиббинге - заселенном в основном христианами маленьком городке Среднего Запада. Как и в…
(род. 1941) Сын Битти и Эйба Циммерманов Роберт Аллен родился в городе Дулуте, в штате Миннесота, перед самым вступлением Америки во Вторую мировую войну. Бобби рос в соседнем Хиббинге - заселенном в основном христианами маленьком городке Среднего Запада. Как и в… Вряд ли возможно представить себе смерть шести с лишним миллионов человек. Подумайте о городе, в котором вы живете. Если только это не Москва, Нью-Йорк или Токио, численность его жителей, скорее всего, окажется значительно меньше шести миллионов. Даже в иных странах или…
Вряд ли возможно представить себе смерть шести с лишним миллионов человек. Подумайте о городе, в котором вы живете. Если только это не Москва, Нью-Йорк или Токио, численность его жителей, скорее всего, окажется значительно меньше шести миллионов. Даже в иных странах или… Один из руководителей Русской революции, "истинный революционный вождь", правая рука Ленина и заклятый враг Сталина, Лев Троцкий (урожденный Лейба Давидович Бронштейн) был одним из самых влиятельных и ненавистных политиков современной истории. Основав газету "Правда"1, Троцкий обеспечил в значительной степени интеллектуальную базу…
Один из руководителей Русской революции, "истинный революционный вождь", правая рука Ленина и заклятый враг Сталина, Лев Троцкий (урожденный Лейба Давидович Бронштейн) был одним из самых влиятельных и ненавистных политиков современной истории. Основав газету "Правда"1, Троцкий обеспечил в значительной степени интеллектуальную базу…В изданной в 1913 году книге "Витамин" Казимир Функ совершил революцию в биохимии, которая повлияла на медицину, что для здоровье человека требуется не один или несколько основных витаминов, а многие витаминные соединения
 Хаим Вейцман первый президент Израиля, ученый и самый влиятельный еврей в истории, который непосредственно участвовал в создании государства Израиль.
Хаим Вейцман первый президент Израиля, ученый и самый влиятельный еврей в истории, который непосредственно участвовал в создании государства Израиль. Альберт Абрахам Майкельсон стал первым американским ученым, удостоившимся Нобелевской премии (первым американцем, награжденным ею, был президент Теодор Рузвельт, отмеченный за вклад в прекращение в 1905 г. войны между Россией и Японией). Удостоенный награды Нобелевского комитета в 1907 г. "за свои точные…
Альберт Абрахам Майкельсон стал первым американским ученым, удостоившимся Нобелевской премии (первым американцем, награжденным ею, был президент Теодор Рузвельт, отмеченный за вклад в прекращение в 1905 г. войны между Россией и Японией). Удостоенный награды Нобелевского комитета в 1907 г. "за свои точные… Он родился в Париже в семье польского музыканта и матери-ирландки и стал одним из самых известных философов своего времени. Воззрения Бергсона на время, эволюцию, память, свободу, восприятие, разум и тело, интуицию, интеллект, мистику и общество повлияли на мышление и труды европейских…
Он родился в Париже в семье польского музыканта и матери-ирландки и стал одним из самых известных философов своего времени. Воззрения Бергсона на время, эволюцию, память, свободу, восприятие, разум и тело, интуицию, интеллект, мистику и общество повлияли на мышление и труды европейских… Джон фон Нейман, венгерский ученый математик из еврейской семьи, который прежде известен терминами "Алгебра фон Неймена и теоремой о минимаксе, а также "отцом компьютера".
Джон фон Нейман, венгерский ученый математик из еврейской семьи, который прежде известен терминами "Алгебра фон Неймена и теоремой о минимаксе, а также "отцом компьютера". В 1950-х годах Грегори Гудвин Пинкус разработал противозачаточную таблетку, которая неизмеримо повлияло на планирование семьи в обществе, но при этом имя создателя не стало известным обществу. Новый препарат стал фармацевтическим прорывом, который имел 100% эффект.
В 1950-х годах Грегори Гудвин Пинкус разработал противозачаточную таблетку, которая неизмеримо повлияло на планирование семьи в обществе, но при этом имя создателя не стало известным обществу. Новый препарат стал фармацевтическим прорывом, который имел 100% эффект. Сын эльзасского раввина Эмиль Дюркгейм был не только основателем современной социологии, но и - наряду с Фрейдом, Марксом и Максом Вебером - одним из самых глубоких мыслителей девятнадцатого и начала двадцатого веков. Пытаясь поначалу привести в систему социологию, Дюркгейм стремился объяснить,…
Сын эльзасского раввина Эмиль Дюркгейм был не только основателем современной социологии, но и - наряду с Фрейдом, Марксом и Максом Вебером - одним из самых глубоких мыслителей девятнадцатого и начала двадцатого веков. Пытаясь поначалу привести в систему социологию, Дюркгейм стремился объяснить,…
Самым влиятельным человеком Нового времени был родившийся в Германии физик Альберт Эйнштейн. Законодатель Моисей выделил еврейский народ и по сути основал цивилизацию. Иисус из Назарета обратил многие миллионы человек в беззаветную веру. На рассвете первого технологического столетия Эйнштейн открыл неиссякаемые возможности…
Осип Мандельштам
Осип Эмильевич Мандельштам - один из самых крупных поэтов России XX века - родился 3(15) января 1891 г. в Варшаве, в еврейской семье коммерсанта, впоследствии купца первой гильдии, промышлявшего обработкой кожи, Эмилия Вениаминовича Мандельштама. Отец, в свое время учившийся в Высшей талмудической школе в Берлине, хорошо знал и чтил еврейские традиции. Мать - Флора Осиповна - была музыкантшей, родственницей известного историка русской литературы С.А. Венгерова.
Детство и юность Осипа прошли в Петербурге, куда семья переехала в 1897 г. Поэт Георгий Иванов пишет о среде, формировавшей будущего поэта: "Отец - не в духе. Он всегда не в духе, отец Мандельштама. Он - неудачник-коммерсант, чахоточный, затравленный, вечно фантазирующий... Мрачная петербургская квартира зимой, унылая дача летом... Тяжелая тишина... Из соседней комнаты хриплый шепоток бабушки, сгорбленной над Библией: страшные, непонятные, древнееврейские слова..."
Мандельштам был европейским, германоориентированным евреем первой трети XX в. со всеми сложностями и изгибами духовной, религиозной, культурной жизни этого важнейшего отрезка европейской культуры. В "Краткой еврейской энциклопедии" мы читаем о поэте: "Хотя Мандельштам в отличие от ряда русских писателей-евреев не пытался скрывать свою принадлежность к еврейскому народу, его отношение к еврейству было сложным и противоречивым. С болезненной откровенностью в автобиографическом "Шуме времени" Мандельштам вспоминает о постоянном стыде ребенка из ассимилированной еврейской семьи за свое еврейство, за назойливое лицемерие в выполнении еврейского ритуала, за гипертрофию национальной памяти, за "хаос иудейский" ("...не родина, не дом, не очаг, а именно хаос"), от которого он всегда бежал".
Однако если мы внимательно перечтем автобиографическую повесть Мандельштама, то увидим, что этот "хаос иудейский" (у Мандельштама выражение это, кстати, не несет отрицательных смыслов) относится далеко не ко всему иудейству. "Хаосом иудейским" назван не иудаизм в целом, а конкретная сцена, следующая за описанием синагоги, из которой 9-10-летний Осип вернулся в некотором "чаду".
В 1899-1907 гг. Мандельштам учился в Тенишевском коммерческом училище, одном из лучших учебных заведений Петербург того времени, увлекался эсеровским движением. 1907-1910 гг. он провел в Европе: в Париже посещал лекции на словесном факультете Сорбонны, два семестра проучился в Гейдельбергском университете, жил в Швейцарии, совершил поездку в Италию.
Вернувшись в Петербург, в 1911 г. Мандельштам поступил на отделение романских языков историко-филологического факультета Петербургского университета, но не окончил его.
В России Мандельштам интересуется религией (особенно напряженно в 1910 г.), посещает заседания Религиозно-философского общества. Но в стихах его религиозные мотивы целомудренно-сдержанны ("Неумолимые слова..." о Христе, который не назван). Из стихов этих лет Мандельштам включил в свои книги менее трети. Но в 1911 г. он все же принимает крещение по методистскому обряду у протестантского пастора, что было "уступкой обстоятельствам, связанным с невозможностью из-за процентной нормы поступить в университет".
Первые его поэтические опыты - два стихотворения в традициях народнической лирики - были опубликованы в студенческом журнале Тенишевского училища "Пробужденная мысль" в 1907 г. Но подлинный его литературный дебют состоялся в августе 1910-го, в девятом номере журнала "Аполлон", где была напечатана подборка из пяти его стихотворений.
Поначалу Мандельштам примыкал к поэтическому течению "символизм", посещал В.И. Иванова, посылал ему свои стихи. Но 1911 г. Мандельштам сблизился с Н.С. Гумилевым и А.А. Ахматовой, и в 1913 г. его стихи "Notre dame", "Айя-София" печатаются в программной подборке акмеистов.
Акмеизм для Мандельштама гораздо ближе символизма - это конкретность, "посюсторонность", "сообщничество сущих в заговоре против пустоты и небытия", преодоление хрупкости человека и косности мироздания через творчество ("из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам"). Поэт уподобляет себя зодчему, почему первую свою книгу Мандельштам и называет "Камень" (1913, 2-е издание, значительно переработанное, 1916).
К Мандельштаму приходит известность в литературных кружках, он свой человек в петербургской богеме, задорный, веселый до ребячливости и самозабвенно-торжественный над стихами.
Раннее творчество Мандельштама неразрывно связано с акмеизмом, деятельностью "Цеха поэтов" и литературной полемикой между акмеистами и символистами. Ему принадлежит один из манифестов акмеизма - "Утро акмеизма" (написанный в 1913 г., но опубликованный только в 1919-м), провозгласивший ценность "слова, как такового" - в единстве всех его элементов - в противовес футуристическому отказу от смысла слова во имя звука, Так и символистскому стремлению увидеть за конкретным образом его подлинную скрытую сущность.
К октябрьской революции 1917 г. Мандельштам относился как к катастрофе (стихи "Кассандре", "Когда октябрьский нам готовил временщик..."), однако вскоре у него возникает робкая надежда на то, что новое "жестоковыйное" государство может быть гуманизовано хранителями старой культуры, которые вдохнут в его нищету домашнее, "эллинское" (но не римское) тепло человеческого слова. Об этом его лирические статьи 1921-1922 гг.: "Слово и культура", "О природе слова", "Гуманизм и современность", "Пшеница человеческая" и другие.
В первые годы после революции 1917 г. Мандельштам работает в Наркомпросе. В 1919-1920 гг. (и позднее, в 1921-1922 гг.) он уезжает из голодного Петербурга на юг - Украину, Крым, Кавказ, - но от эмиграции отказывается.
В 1922 г. Мандельштам поселяется в Москве вместе с молодой женой Надеждой Хазиной (Н.Я. Мандельштам), с которой он познакомился 1 мая 1919 г. Она станет его опорой на всю жизнь, а после гибели поэта сохранит его литературное наследие.
Мандельштам обожал жену, называя ее своим вторым "я". А. Ахматова вспоминает: "Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов в каждом слове в стихах. Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела".
К 1923 г. надежды поэта на быструю гуманизацию нового общества иссякают. Мандельштам чувствует себя отзвуком старого вен в пустоте нового ("Нашедший подкову", "1 января 1924"), и после 1925 г. на пять лет он вообще перестает писать стихи. Только в 1928-м выходят итоговый его сборник "Стихотворения" и прозаическая повесть "Египетская марка" (о судьбе маленького человека в провале двух эпох).
С 1924 г. Мандельштам живет в Ленинграде, а с 1928-го в Москве, он и жена практически бездомные, с вечно неустроенным бытом.
Начиная с середины 1924 г. Мандельштам, зарабатывая на жизнь, занимается переводами; пишет автобиографическую прозу "Шум времени" (1925), "Четвертая проза" (издана посмертно в 1966 году); выпускает сборник статей "О поэзии" (1928). И самого себя в те годы он так характеризует: "Чувствую себя должником революции, но приношу ей дары, в которых она не нуждается".
Всего при жизни Мандельштама вышло шесть его поэтических книг: три издания "Камня" (1913, 1916 и 1923); "Tristia" (1922 г., переводе с греческого это слово означает "печаль, скорбное песнопение"); "Вторая книга" (сборник был издан в 1923 году в Берлине и был назван так М.А. Кузьминым) и "Стихотворения" (1928)". В 1931-1932 гг. Мандельштам заключил договоры на сборники "Избранное" и "Новые стихи", а также на двухтомное собрание сочинений, но эти издания не состоялись.
После гибели поэта имя Мандельштама оставалось в СССР под запретом около 20 лет. Первое в СССР посмертное издание стихов Мандельштама было анонсировано в 1958 г., но вышло только 1973-м - Мандельштам О. "Стихотворения", в большой серии "Библиотека поэта". (Впервые же собрание сочинений поэта было издано в США в 1964 г.).
В начале 1930-х гг. Мандельштам уже вполне принимает идеалы революции, но категорически отвергает власть, которая их фальсифицирует. В 1930-м он пишет свою "Четвертую прозу" - жесточайшее обличение нового режима, а в 1933-м - стихотворную "эпиграмму" на Сталина "Мы живем, под собою не чуя страны..." Внутренний разрыв с рабством официальной идеологии дает Мандельштаму силу вернуться к подлинному творчеству, которое у него шло, за редким исключением, "в стол", не предназначаясь для сиюминутной печати.
14 мая 1934 г. за "эпиграмму" "Мы живем, под собою не чуя страны..." и другие стихи Мандельштам был арестован в своей квартире.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.
А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, кует за указом указ -
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина,
И широкая грудь осетина.
А. Ахматова вспоминает: "Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи... Осипа Эмильевича увели в 7 часов утра, было совсем светло... Через некоторое время опять стук, опять обыск. Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в "Известия", я - к Енукидзе, в Кремль..."
Возможно, это заступничество известных поэтов и Николая Бухарина сыграло свою роль. Известен факт звонка Сталина Пастернаку, в котором предметом разговора был Мандельштам.
Резолюция Сталина была: "Изолировать, но сохранить". И вместо расстрела или лагерей - неожиданно мягкий приговор - ссылка вместе с женой, Надеждой Мандельштам, в город Чердынь-на-Каме Пермской области.
В Чердыни у Мандельштама были приступ душевной болезни и попытка самоубийства. Он выбросился из окна больницы и сломал себе руку.
Вскоре место ссылки было заменено на Воронеж, где Мандельштам пробыл до 1937 г. Стихи, написанные в этот период, по словам А. Ахматовой - "...вещи неизреченной красоты и мощи", составили "Воронежские тетради", опубликованные посмертно в 1966 г.
В Воронеже Мандельштам живет нищенски, сперва на мелкие заработки, потом на скудную помощь друзей и постоянно продолжает ждать расстрела.
Странная и неожиданная мягкость приговора вызвала в Мандельштаме подлинное душевное смятение, вылившееся в ряд стихов с открытым приятием советской действительности и с готовностью на жертвенную смерть: "Стансы" (1935 и 1937), так называемая "Ода" Сталину (1937) и другие. Но многие исследователи творчества Мандельштама видят в них только самопринуждение или "эзопов язык". Мандельштам временами надеялся, что "Ода" Сталину спасет его, но позже он говорил, что "это была болезнь", и хотел ее уничтожить.
После Воронежа Мандельштам почти год живет в окрестностях Москвы, по словам А. Ахматовой, "как в страшном сне". Этот сон оборвался в 1938-м.
После ссылки разрешения жить в столице Мандельштам не получил. Работы не было. И вдруг секретарь Союза писателей СССР Ставский, к которому безуспешно пытался попасть Мандельштам, но который так и не принял поэта, - именно он предлагает Мандельштаму и его жене путевку в Дом отдыха "Саматиха", причем на целых два месяца. А. Фадеев, узнав об этом, почему-то очень расстроился, но Мандельштам был несказанно рад.
30 апреля 1938 г. был подписан ордер на новый арест поэта. Мандельштама арестовали в том Доме отдыха, путевку в который ему любезно предоставил человек, перед этим написавший... донос на поэта. Донос и стал причиной ареста. Судить же Мандельштама могли уже за одну его анкету: "Родился в Варшаве. Еврей. Сын купца. Беспартийный. Судим". 1 мая 1938 г. Мандельштама арестовали второй раз.
"Ося, родной, далекий друг! - пишет мужу Надежда Мандельштам. - Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память... (...)
Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка - тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, слепой поводырь... (...)
Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному - одной. Для нас ли - неразлучных - эта участь? Мы ли - щенята, дети, ты ли - ангел - ее заслужил? (...)
Не знаю, жив ли ты... Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе...
Ты всегда со мной, я - дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, - я плачу, плачу, плачу.
Это я - Надя. Где ты? Прощай".
Это письмо Надежда Мандельштам написала мужу 28 октября 1938 г., оно уцелело случайно. В июне 1940 г. жене поэта вручили свидетельство о смерти Осипа Мандельштама. Согласно официальному свидетельству, Мандельштам умер в пересыльном лагере под Владивостоком "Вторая речка" 27 декабря 1938 г. от паралича сердца.
Помимо данной версии существовало еще и множество других. Кто-то рассказывал, что видел Мандельштама весной 1940 г. в партии заключенных, отправляющейся на Колыму. На вид ему было лет 70, и производил он впечатление сумасшедшего. По этой версии он умер на судне по дороге на Колыму, и тело его было брошено в океан. По другой версии - Мандельштам в лагере читал Петрарку и был убит уголовниками. Но это все легенды.
Мандельштама уничтожили физически, но не сломили нравственно. В нем до конца "росли и переливались волны внутренней правоты". Железный дух Мандельштама невозможно было согнуть, и он прекрасно все понимал про себя и свое Божье дело: "Раз за поэзию убивают, значит, ей воздают должный почет и уважение, значит, она власть".
"Когда я умру, потомки спросят моих современников: "Понимали ли вы стихи Мандельштама?" - "Нет, мы не понимали его стихов". - "Кормили ли вы Мандельштама, давали ли ему кров?" - "Да, мы кормили Мандельштама, мы давали ему кров". - "Тогда вы прощены".
18+, 2015, сайт, «Seventh Ocean Team». Координатор команды:
Осуществляем безвозмездную публикацию на сайте.
Публикации на сайте, являются собственностью их соответствующих владельцев и авторов.
Из книги судеб . Осип Эмильевич Мандельштам (1891 - 1938), русский поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Родился 3 (15) января 1891 в Варшаве в семье Эмилия Вениаминовича (Хацкеля Беньяминовича) Мандельштама, кожевенника и мастера перчаточного дела. Старинный еврейский род Мандельштамов со времён иудейского просвещения XVIII века дал миру известных раввинов, физиков и врачей, переводчиков Библии и историков литературы.
Мать поэта, Флора Осиповна Вербловская, происходила из виленской семьи ассимилировавшихся и влившихся в ряды русской интеллигенции евреев. Она находилась в родстве с известным литературоведом С. А. Венгеровым, была музыкантшей и ценительницей русской классической словесности.
 Вскоре после рождения сына семья переезжает в Петербург. Здесь сознание будущего поэта постепенно пронизывается глубоким и творчески плодотворным культурным диссонансом. Патриархальный быт еврейского клана, впоследствии облёкшийся в образ отвергаемого, заклинаемого, но и родного «хаоса иудейского», противостанет в творчестве поэта ошеломившему, пленившему величию Петербурга с его имперской упорядоченностью и повелительной гармонией. Позднее в поэзии Мандельштама оба этих фона запечатлелись в сочетании глубоких контрастирующих красок - чёрной и жёлтой, красок талеса (иудейского молитвенного покрывала) и императорского штандарта: «Словно в воздухе струится / Жёлчь двуглавого орла» («Дворцовая площадь», 1915); «Се чёрно-жёлтый свет, се радость Иудеи!» («Среди священников левитом молодым..», 1917).
Вскоре после рождения сына семья переезжает в Петербург. Здесь сознание будущего поэта постепенно пронизывается глубоким и творчески плодотворным культурным диссонансом. Патриархальный быт еврейского клана, впоследствии облёкшийся в образ отвергаемого, заклинаемого, но и родного «хаоса иудейского», противостанет в творчестве поэта ошеломившему, пленившему величию Петербурга с его имперской упорядоченностью и повелительной гармонией. Позднее в поэзии Мандельштама оба этих фона запечатлелись в сочетании глубоких контрастирующих красок - чёрной и жёлтой, красок талеса (иудейского молитвенного покрывала) и императорского штандарта: «Словно в воздухе струится / Жёлчь двуглавого орла» («Дворцовая площадь», 1915); «Се чёрно-жёлтый свет, се радость Иудеи!» («Среди священников левитом молодым..», 1917).
 Лейтмотив мандельштамовских воспоминаний о детстве - «косноязычие», «безъязычие» семьи, «фантастический» язык отца, самоучкой освоившего русский и немецкий. В наследие поэту достаётся не речь, а неутолимый порыв к речи, рвущийся через преграду безъязыкости. Путь Мандельштама к лаврам одного из величайших поэтов XX века пройдёт через мучительные попытки преодолеть это косноязычие, расширить границы выговариваемого, обуздать «невыразимое» врождённым ритмом, найти «потерянное слово». Но наряду с косноязычием евреев, входящих в русскую речь извне, с усилием, Мандельштаму предстоит преодолеть и косноязычие надсоновской поры русской поэзии - 1880-1890 годов, когда старые возможности языка исчерпаны, а новые лишь брезжат, и, наконец, безъязыкость будущего поэта, которому заказано благополучно пользоваться готовым языком и предстоит сквозь «высокое» косноязычие («косноязычием» именуется в Библии речевой дефект пророка Моисея) прорваться к своему уникальному слову. А преображающая сила воздействия мандельштамовского слова на последующую русскую поэзию XX века, пожалуй, не знает себе равных.
Лейтмотив мандельштамовских воспоминаний о детстве - «косноязычие», «безъязычие» семьи, «фантастический» язык отца, самоучкой освоившего русский и немецкий. В наследие поэту достаётся не речь, а неутолимый порыв к речи, рвущийся через преграду безъязыкости. Путь Мандельштама к лаврам одного из величайших поэтов XX века пройдёт через мучительные попытки преодолеть это косноязычие, расширить границы выговариваемого, обуздать «невыразимое» врождённым ритмом, найти «потерянное слово». Но наряду с косноязычием евреев, входящих в русскую речь извне, с усилием, Мандельштаму предстоит преодолеть и косноязычие надсоновской поры русской поэзии - 1880-1890 годов, когда старые возможности языка исчерпаны, а новые лишь брезжат, и, наконец, безъязыкость будущего поэта, которому заказано благополучно пользоваться готовым языком и предстоит сквозь «высокое» косноязычие («косноязычием» именуется в Библии речевой дефект пророка Моисея) прорваться к своему уникальному слову. А преображающая сила воздействия мандельштамовского слова на последующую русскую поэзию XX века, пожалуй, не знает себе равных.
С ранних юношеских лет сознание Мандельштама - это сознание разночинца, не укоренённого в вековой почве национальной культуры и патриархального быта: «Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюблённых в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаньями... Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочёл, - и биография готова». Но из этой неукоренённости в национальном быте вырастет причастность всемирному бытию, акмеистическая «тоска по мировой культуре», способность воспринимать Гомера, Данте, Пушкина как современников и «сображников» на свободном «пиру» вселенского духа.
 В 1900-1907 годах Мандельштам обучается в Тенишевском коммерческом училище - одном из лучших учебных заведений тогдашней России. Здесь царила особая интеллигентски-аскетическая атмосфера, культивировались возвышенные идеалы политической свободы и гражданского долга.
В 1900-1907 годах Мандельштам обучается в Тенишевском коммерческом училище - одном из лучших учебных заведений тогдашней России. Здесь царила особая интеллигентски-аскетическая атмосфера, культивировались возвышенные идеалы политической свободы и гражданского долга.
Революционные события и катастрофа русско-японской войны вдохновили первые стихотворные опыты поэта. «Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шёл в гусары», - скажет он много позже, оглядываясь назад. Получив 15 мая 1907 года диплом Тенишевского училища, Мандельштам пытается вступить в Финляндии в боевую организацию эсеров, но не принимается туда по малолетству. Обеспокоенные за будущность сына родители спешат отправить его учиться за границу. В 1907-1908 годах Мандельштам слушает лекции на словесном факультете Парижского университета, в 1909-1910 годах занимается романской филологией в Гейдельбергском университете (Германия), путешествует по Швейцарии и Италии. Эхо этих встреч с Западной Европой уже никогда не покинет поэзию Мандельштама. Именно тогда в сумму архитектурных впечатлений Мандельштама входит европейская готика - сквозной символ образной системы его будущей поэзии.
В Париже происходит внутренний перелом: юноша оставляет политику ради поэзии, обращается к интенсивному литературному труду. Увлекается лирикой Брюсова , вождя русского символизма, и французских «проклятых» поэтов - за смелость «чистого отрицания», за «музыку жизни», как скажет Мандельштам в одном из писем своему бывшему учителю словесности и литературному наставнику В. В. Гиппиусу . В Париже Мандельштам знакомится с Гумилёвым . Именно Гумилёв «посвятил» Мандельштама в «сан» поэта. А в 1911 году, уже в Петербурге, Мандельштам на вечере в «башне» Вячеслава Иванова впервые встречает супругу Гумилёва Анну Ахматову . Всех троих объединит не только глубокая дружба, но и сходство поэтических устремлений.
 Около 1910 года в наиболее чутких литературных кругах становится очевиден кризис символизма как литературного направления, претендующего на роль тотального языка нового искусства. Желанием художественного высвобождения из-под его власти было продиктовано намерение Гумилёва , Ахматовой , Мандельштама, а также С. Городецкого , В. Нарбута , М. Зенкевича и некоторых других авторов образовать новое поэтическое направление. Так в начале 1913 года на авансцену литературной борьбы выступает акмеизм.
Около 1910 года в наиболее чутких литературных кругах становится очевиден кризис символизма как литературного направления, претендующего на роль тотального языка нового искусства. Желанием художественного высвобождения из-под его власти было продиктовано намерение Гумилёва , Ахматовой , Мандельштама, а также С. Городецкого , В. Нарбута , М. Зенкевича и некоторых других авторов образовать новое поэтическое направление. Так в начале 1913 года на авансцену литературной борьбы выступает акмеизм.
Более чем какое-либо иное литературное направление, акмеизм сопротивлялся точному определению... Но в историю русской литературы XX века акмеизм вошёл, прежде всего, как цельная поэтическая система, объединяющая трёх стихотворцев - Мандельштама, Ахматову и Гумилёва . И Мандельштам в этом ряду для большинства современных исследователей стоит едва ли не первым.
Высшее чудо акмеизм прозрел в слове, в самом поэтическом действе… Земное и небесное здесь не противостояли друг другу. Они сливались воедино благодаря чуду слова - божественного дара именования простых земных вещей... Объединив земное и небесное, поэтическое слово как бы обретало плоть и превращалось в такой же факт действительности, как и окружающие вещи - только более долговечный…
Мандельштам всегда стремился своё поэтическое существование сличить с неизгладимым следом, оставленным его великими предшественниками, и результат этого сличения предъявить далёкому читателю уже в потомстве... Тем самым снималось противоречие между прошлым, настоящим и будущим. Поэзия Мандельштама могла облекаться в ясные классические формы, отсылающие к искусству былых эпох. Но одновременно в ней всегда таилась взрывная сила сверхсовременных, авангардных художественных приёмов, которые наделяли устойчивые традиционные образы новыми и неожиданными значениями. Угадать эти значения и предстояло «идеальному читателю» будущего.
 При всей безупречной, классической логике своей «архитектуры», смысл мандельштамовского текста столь же непредсказуем, как и ключ загадки. В центре образного языка Мандельштама - спрятанные в подтекст аналогии между порой далёкими друг от друга явлениями. И разглядеть эти аналогии под силу только читателю, который живёт в том же культурном пространстве, что и сам Мандельштам… А потому, по словам С. С. Аверинцева, стихи Мандельштама «так заманчиво понимать - и так трудно толковать».
При всей безупречной, классической логике своей «архитектуры», смысл мандельштамовского текста столь же непредсказуем, как и ключ загадки. В центре образного языка Мандельштама - спрятанные в подтекст аналогии между порой далёкими друг от друга явлениями. И разглядеть эти аналогии под силу только читателю, который живёт в том же культурном пространстве, что и сам Мандельштам… А потому, по словам С. С. Аверинцева, стихи Мандельштама «так заманчиво понимать - и так трудно толковать».
В поэзии Мандельштама смысловой потенциал, накопленный словом за всю историю его бытования в других поэтических контекстах, приобретает значение благодаря скрытым цитатам-загадкам… Основные черты этого метода в полной мере проявились уже в первом сборнике поэта - «Камень» (1913). Сюда вошли 23 стихотворения 1908-1913 годов (позднее сборник был дополнен текстами 1914-1915 годов и переиздан в конце 1915 года). Вошедшие в сборник ранние стихи 1908-1910 года являют собой уникальное для всей мировой поэзии сочетание незрелой психологии юноши, чуть ли не подростка, с совершенной зрелостью интеллектуального наблюдения и поэтического описания именно этой психологии:
Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша, -
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша...
Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблён.
В первой части «Камня» критики чаще всего отмечали символистские влияния. Здесь, действительно, как и у символистов, присутствует некое «двоемирие», противостояние земной преходящей реальности высшему вечному миру. Но Мандельштам это двоемирие ощущает по-особому, сугубо индивидуально. Он драматически напряжённо переживает уникальность своего хрупкого «я», своего слабого, но неповторимого «тёплого дыхания» на фоне космически безучастной вечности. В итоге рождается удивление (едва ли не центральная эмоция всей лирики Мандельштама), психологически достоверное и лишённое всякой литературности, вторичности:
Неужели я настоящий,
И действительно смерть придёт?
 Вторая половина «Камня», как заметил в рецензии на книгу Гумилёв , образцово «акмеистическая». В противовес символистским «экстазам слога», нарочитой звукописи и декоративности здесь царствует «классическая» форма стиха, зачастую приподнятая интонация оды, равновесная экономия стиля и образа. При этом Мандельштам преображает мистические символы в сложные, но осязаемые аналогии, а тайны - в интеллектуальные проблемы, загадки. Ключ к такому методу лежит уже в названии книги. Именование «камень» может быть воспринято как анаграмма (игра на созвучии через перестановку букв) слова АКМЭ, давшее название новому литературному движению (это греческое слово, обозначающее высшую точку развития, расцвет, но также и острие камня). Но название сборника отсылает и к знаменитому стихотворению Тютчева 1833 года «Probleme», повествующему о камне, который «с горы скатившись, лёг в долине», сорвавшись «…сам собой, / иль был низринут волею чужой».
Вторая половина «Камня», как заметил в рецензии на книгу Гумилёв , образцово «акмеистическая». В противовес символистским «экстазам слога», нарочитой звукописи и декоративности здесь царствует «классическая» форма стиха, зачастую приподнятая интонация оды, равновесная экономия стиля и образа. При этом Мандельштам преображает мистические символы в сложные, но осязаемые аналогии, а тайны - в интеллектуальные проблемы, загадки. Ключ к такому методу лежит уже в названии книги. Именование «камень» может быть воспринято как анаграмма (игра на созвучии через перестановку букв) слова АКМЭ, давшее название новому литературному движению (это греческое слово, обозначающее высшую точку развития, расцвет, но также и острие камня). Но название сборника отсылает и к знаменитому стихотворению Тютчева 1833 года «Probleme», повествующему о камне, который «с горы скатившись, лёг в долине», сорвавшись «…сам собой, / иль был низринут волею чужой».
В статье «Утро акмеизма» Мандельштам окончательно прояснит смысл этой ассоциации: «Но камень Тютчева... есть слово. Голос материи в этом неожиданном паденье звучит как членораздельная речь. На этот вызов можно ответить только архитектурой. Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания».
В «Камне» Мандельштам символистскому культу музыки, «эфемернейшего из искусств», отвечал как раз монументальными образами архитектуры, свидетельствующими о победе организации над хаосом, пафоса утверждения меры и обуздания материи над безмерностью и порывом...
И всё же здесь нет пресловутого культа вещей, какой критики нередко усматривали за акмеистическими манифестами, а чувственная пластичность и осязаемая конкретность образов - не главное. Когда поэт хочет передать вещь на ощупь, он достигает этого одной деталью. Но таких вещей в лирике Мандельштама немного. На вещи своего века поэт смотрит с огромной дистанции. Сами по себе они его удивляют, но не очень интересуют. Взгляд Мандельштама проходит как бы сквозь вещи и стремится уловить то, что за ними скрыто.
Ещё в 1911 году Мандельштам совершил акт «перехода в европейскую культуру» - принял христианство. И хотя крещён поэт был в методистской церкви (14 мая, в Выборге), стихи «Камня» запечатлели захваченность католической темой, образом вечного Рима. В католичестве Мандельштама пленил пафос единой всемирной организующей идеи. Она отразила в духовной сфере симфонию готической архитектуры. Подобно тому, как «твердыня» собора созидается из «недоброй тяжести» камней, из хора столь разных и несхожих народов рождается единство западного христианского мира под властью Рима.
Иной пример связан с восприятием Мандельштамом образа «первого русского западника» - Чаадаева. Ему посвящена статья 1915 года «Пётр Чаадаев», его образом вдохновлено созданное тогда же стихотворение «Посох». В католических симпатиях Чаадаева, в его преданности идее Рима как средоточия духовного единства христианской вселенной Мандельштам прозревает не измену, а глубинную верность русскому национальному пути: «Мысль Чаадаева, национальная в своих истоках, национальна и там, где вливается в Рим... Чаадаев именно по праву русского человека вступил на священную землю традиции, с которой он не был связан преемственностью...» И лирический герой самого Мандельштама, очевидно, с «посохом» отправился в Европу - «страну святых чудес», - дабы по-настоящему «вырасти в русского». Теперь «весна неумирающего Рима» перенимает у зрелого Мандельштама ту роль противовеса родимому хаосу, которую для юного поэта выполняла петербургская архитектура. А в понятии «родимого хаоса» ныне неразличимы два лика - «иудейский» и «российский».
С началом Первой мировой войны в поэзии Мандельштама всё громче звучат эсхатологические ноты - ощущение неминуемости катастрофы, некоего временного конца. Эти ноты сопряжены, прежде всего, с темой России и наделяют образ Родины, зажатой в тисках неумолимой истории, даром особой свободы, доступной лишь тем, кто вкусил Смерти и взвалил на себя жертвенный Крест:
Нам ли, брошенным в пространство,
Обречённым умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть.
(«О свободе небывалой...», 1915).
Место «камня», строительного материала поэзии, ныне заменяет подвластное огню «дерево» - одновременно символ трагической судьбы и выражение русской идеи («Уничтожает пламень...», 1915). Стремление приобщиться к такого рода трагическому национальному опыту в практической жизни заставляет Мандельштама в декабре 1914 года отправиться в прифронтовую Варшаву, где он хочет вступить в войска санитаром. Из этого ничего не вышло. Поэт возвращается в столицу и создаёт целый ряд стихотворений, которые можно назвать реквиемом по обречённому имперскому Петербургу. Уходящий державный мир вызывает у поэта сложное переплетение чувств: это и почти физический ужас, и торжественность («Прославим власти сумеречное бремя, / Её невыносимый гнёт»), и даже жалость.
Мандельштам, наверное, первым в мировой литературе заговорил о «сострадании» к государству, к его «голоду». В одной из глав «Шума времени» - автобиографической прозы 1925 года - возникает сюрреалистический образ «больного орла», жалкого, слепого, с перебитыми лапами, - двуглавой птицы, копошащейся в углу «под шипенье примуса». Чернота этой геральдической птицы - герба Российской империи - была увидена как цвет конца ещё в 1915 году.
Стихи поры войны и революции составляют у Мандельштама сборник «Tristia» («книгу скорбей», впервые изданную без участия автора в 1922 году и переизданную под названием «Вторая книга» в 1923 году в Москве). Цементирует книгу тема времени, грандиозного потока истории, устремлённой к гибели. Эта тема станет сквозной во всём творчестве поэта вплоть до последних дней. Внутреннее единство «Tristia» обеспечено новым качеством лирического героя, для которого уже не существует ничего личного, что не причастно общему временному потоку, чей голос может быть слышен лишь как отзвук гула эпохи. Совершающееся в большой истории осознаётся как крушение и созидание «храма» собственной личности:
В ком сердце есть - тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идёт («Сумерки свободы», 1918).
Мотив отчаяния здесь звучит очень отчётливо, однако на последней глубине он высветляется очищающим чувством собственной причастности происходящему:
Мы в легионы боевые
Связали ласточек - и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живёт;
Сквозь сети - сумерки густые -
Не видно солнца и земля плывёт.
По законам духовного парадокса, тяжкая, кровавая и голодная пора начала 1920-х годов не только ознаменуется подъёмом поэтической активности Мандельштама, но и привнесёт странное, вроде бы иррациональное ощущение просветления и очищения («В Петербурге мы сойдёмся снова...», 1920). Мандельштам говорит о хрупком веселье национальной культуры посреди гибельной стужи русской жизни и обращается к пронзительнейшему образу:
И живая ласточка упала
На горячие снега.
 Ужас происходящего чреват последней степенью свободы. «Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно всё стало достоянием общим. Идите и берите. Всё доступно…», - сказано в статье «Слово и культура».
Ужас происходящего чреват последней степенью свободы. «Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно всё стало достоянием общим. Идите и берите. Всё доступно…», - сказано в статье «Слово и культура».
В поэзии и биографии Мандельштама 1920-1930-х годов отчаяние искупается мужественной готовностью к высокой жертве, причём в тонах отчётливо христианских. Строки 1922 года: «Снова в жертву, как ягнёнка / Темя жизни принесли» откликнутся в словах, сказанных поэтом, уже написавшим гибельные для себя стихи о Сталине, в феврале 1934 года Ахматовой : «Я к смерти готов». А в начале 1920-х годов Мандельштам пишет своё отречение от соблазна эмиграции и противопоставляет посулам политических свобод свободу иного - духовного порядка, свободу самопреодоления, которая может быть куплена лишь ценой верности русской Голгофе:
Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой полной веры.
Книга «Tristia» запечатлела существенное изменение стиля поэта: фактура образа всё больше движется в сторону смыслового сдвига, «тёмных», зашифрованных значений, иррациональных языковых ходов. И всё же здесь ещё царит равновесие новых тенденций и былой «архитектурной» строгости. Впрочем, от прежней акмеистической ясности Мандельштам отходит и в теории. Он разрабатывает концепцию «блаженного бессмысленного слова», которое теряет свою предметную значимость, «вещность». Но закон равновесия царит и в теории слова: слово обретает свободу от предметного смысла, однако не забывает о нём. «Бессмысленное блаженное слово» подходит к границе «зауми», с которой экспериментировали футуристы, но не переходит её. Такая техника постепенного отхода от опознаваемых деталей создаёт возможность для внезапного прорыва «узнавания» и удивления - как только читателю-собеседнику удастся пробраться сквозь поверхностные смысловые темноты. И тогда читатель одаряется ликованием «слепого, который узнаёт милое лицо, едва прикоснувшись к нему», и у которого «слёзы... радости узнавания брызнут из глаз после долгой разлуки».
 Так построены лучшие произведения поэта начала десятилетия («Сёстры - тяжесть и нежность...», «Ласточка», «Чуть мерцает призрачная сцена...», «Возьми на радость из моих ладоней...», «За то, что я руки твои не сумел удержать...», всё - 1920 год). В начале 1920-х годов Мандельштам скитается по южным областям России: посещает Киев, где встречает свою будущую супругу Н. Я. Хазину (автора двух мемуарных книг о Мандельштаме и первого комментатора поэта), короткое время живёт в Коктебеле у Волошина , переезжает в Феодосию, где его арестовывает врангелевская контрразведка по подозрению в шпионаже, после освобождения оказывается в Батуми. Здесь Мандельштама вновь арестовывают - на сей раз береговая охрана меньшевиков (из тюрьмы его вызволят грузинские поэты Н. Мицишвили и Т. Табидзе). Наконец, измождённый до крайности Мандельштам возвращается в Петроград, какое-то время живёт в знаменитом Доме искусств, вновь едет на юг, затем обосновывается в Москве. Но к середине 1920-х годов от былого равновесия тревог и надежд в осмыслении происходящего не остаётся и следа. Меняется и поэтика Мандельштама: в ней теперь темноты всё больше перевешивают ясность. Очень лично переживается расстрел Гумилёва в 1921 году. Не оправдываются недавние упования на «отделение церкви-культуры от государства» и установление между ними новых, органических отношений по типу связи древнерусских «удельных князей» с «монастырями».
Так построены лучшие произведения поэта начала десятилетия («Сёстры - тяжесть и нежность...», «Ласточка», «Чуть мерцает призрачная сцена...», «Возьми на радость из моих ладоней...», «За то, что я руки твои не сумел удержать...», всё - 1920 год). В начале 1920-х годов Мандельштам скитается по южным областям России: посещает Киев, где встречает свою будущую супругу Н. Я. Хазину (автора двух мемуарных книг о Мандельштаме и первого комментатора поэта), короткое время живёт в Коктебеле у Волошина , переезжает в Феодосию, где его арестовывает врангелевская контрразведка по подозрению в шпионаже, после освобождения оказывается в Батуми. Здесь Мандельштама вновь арестовывают - на сей раз береговая охрана меньшевиков (из тюрьмы его вызволят грузинские поэты Н. Мицишвили и Т. Табидзе). Наконец, измождённый до крайности Мандельштам возвращается в Петроград, какое-то время живёт в знаменитом Доме искусств, вновь едет на юг, затем обосновывается в Москве. Но к середине 1920-х годов от былого равновесия тревог и надежд в осмыслении происходящего не остаётся и следа. Меняется и поэтика Мандельштама: в ней теперь темноты всё больше перевешивают ясность. Очень лично переживается расстрел Гумилёва в 1921 году. Не оправдываются недавние упования на «отделение церкви-культуры от государства» и установление между ними новых, органических отношений по типу связи древнерусских «удельных князей» с «монастырями».
Культуру всё больше ставили на место. Мандельштам, как и Ахматова , оказался в двусмысленном положении. Для советских властей он явно был чужим, реликтом буржуазного прошлого, но, в отличие от поколения символистов, лишённым даже снисхождения за «солидность» былых заслуг. Мандельштам всё больше страшится потерять «чувство внутренней правоты». Всё чаще в поэзии Мандельштама возникает образ «человеческих губ, которым больше нечего сказать». Параллельно в тематику мандельштамовских стихов вползает зловещая тень безжалостного «века-Зверя». За ним проглядывают зашифрованные черты гоголевского Вия с его смертоносным взглядом (через скрытый пароним, то есть созвучие слов «век» и «веко» - в обращении демона Вия к нечисти: «поднимите мне веки»). Так переосмысляется язык библейского Апокалипсиса, который «зверем» именует грядущего антихриста. Судьба поэтического слова в поединке с самым кровожадным хищником, голодным временем, пожирающим все человеческие творения, отражается в «Грифельной оде» (1923, 1937). Здесь более чем примечательна густая темнота образов, лишённая малейшей прозрачности.
 В 1925 году происходит короткий творческий всплеск, связанный с увлечением Мандельштама Ольгой Ваксель. Затем поэт замолкает на пять лет. Эти годы заняты переводами и работой над прозой - автобиографией «Шум времени», повестью «Египетская марка» (1928), эссе «Четвёртая проза» (1930). Тон книгам задаёт трагическое напряжение между «большим», историческим, эпическим временем и временем личным, биографическим. В «Египетской марке» эти мотивы доведены до надрыва. Главным героем Мандельштам выводит своего двойника, наделяет его сгущёнными чертами «маленького человека» русской литературы в духе Гоголя и Достоевского и предаёт его подобию ритуального поругания…
В 1925 году происходит короткий творческий всплеск, связанный с увлечением Мандельштама Ольгой Ваксель. Затем поэт замолкает на пять лет. Эти годы заняты переводами и работой над прозой - автобиографией «Шум времени», повестью «Египетская марка» (1928), эссе «Четвёртая проза» (1930). Тон книгам задаёт трагическое напряжение между «большим», историческим, эпическим временем и временем личным, биографическим. В «Египетской марке» эти мотивы доведены до надрыва. Главным героем Мандельштам выводит своего двойника, наделяет его сгущёнными чертами «маленького человека» русской литературы в духе Гоголя и Достоевского и предаёт его подобию ритуального поругания…
На рубеже 1920-1930-х годов покровитель Мандельштама во властных кругах Н. Бухарин устраивает его корректором в газету «Московский комсомолец», что даёт поэту и его супруге минимальные средства к существованию. Однако нежелание Мандельштама принимать «правила игры» «благовоспитанных» советских писателей и крайняя эмоциональная порывистость резко осложняют отношения с «коллегами по цеху». Поэт оказывается в центре публичного скандала, связанного с обвинениями в переводческом плагиате (свою отповедь литературным врагам он произнесёт в «Четвёртой прозе», где отвергнет «писательство» как «проституцию» и недвусмысленно выскажется о «кровавой Советской земле» и её «залапанном» социализме).
Дабы уберечь Мандельштама от последствий скандала, Н. Бухарин организует для него поездку в 1930 году в Армению, оставившую глубокий след в том числе в художественном творчестве поэта: после долгого молчания к нему вновь приходят стихи. Они яснее и прозрачней «Грифельной оды», но в них уже явственно звучит последнее отчаяние, безысходный страх. Если в прозе Мандельштам судорожно пытался уйти от угрозы, то теперь он окончательно принимает судьбу, возобновляет внутреннее согласие на жертву:
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,
Да, видно, нельзя никак.
 С начала 1930-х годов поэзия Мандельштама накапливает энергию вызова и «высокого» гражданского негодования, восходящего ещё к древнеримскому поэту Ювеналу: «Человеческий жалкий обугленный рот / Негодует и «нет» говорит».
С начала 1930-х годов поэзия Мандельштама накапливает энергию вызова и «высокого» гражданского негодования, восходящего ещё к древнеримскому поэту Ювеналу: «Человеческий жалкий обугленный рот / Негодует и «нет» говорит».
Так рождается шедевр гражданской лирики - «За гремучую доблесть грядущих веков...» (1931, 1935).
Между тем поэт всё более ощущает себя затравленным зверем и, наконец, в ноябре 1933 года пишет стихи против Сталина («Мы живём, под собою не чуя страны...»). Стихи быстро получили известность, разошлись в списках по рукам, заучивались наизусть. Участь Мандельштама была предрешена: 13 мая 1934 года следует арест. Однако приговор оказался удивительно мягким. Вместо расстрела или лагеря - высылка в Чердынь и скорое разрешение переехать в Воронеж. Здесь Мандельштам переживает последний, очень яркий расцвет поэтического гения (три «Воронежские тетради», 1935-1937). Венец «воронежской лирики» - «Стихи о неизвестном солдате» (1937).
 Поэт проникает внутрь новой «яви» - безысторического и обездуховленного материка времени. Здесь он исполняется глубокой волей «быть как все», «по выбору совести личной» жить и гибнуть с «гурьбой» и «гуртом» миллионов «убитых задёшево», раствориться в бесконечном космическом пространстве вселенной и наполняющей его человеческой массе - и тем самым победить злое время. Поздняя мандельштамовская поэтика делается при этом ещё более «закрытой», «тёмной», многослойной, усложнённой различными подтекстными уровнями. Это поэтика «опущенных звеньев», когда для восстановления сюжета стихотворения нужно восстановить образ-посредник. Образ-посредник может таиться в скрытой и переработанной цитате, зашифрованном подтексте, который с большим трудом поддаётся восстановлению неподготовленным читателем. Но он может скрываться и в сугубо индивидуальной иррациональной логике авторского мышления, взламывающего готовое слово и извлекающей его скрытые смысловые глубины, часто архаичные, восходящие к древним мифологическим моделям.
Поэт проникает внутрь новой «яви» - безысторического и обездуховленного материка времени. Здесь он исполняется глубокой волей «быть как все», «по выбору совести личной» жить и гибнуть с «гурьбой» и «гуртом» миллионов «убитых задёшево», раствориться в бесконечном космическом пространстве вселенной и наполняющей его человеческой массе - и тем самым победить злое время. Поздняя мандельштамовская поэтика делается при этом ещё более «закрытой», «тёмной», многослойной, усложнённой различными подтекстными уровнями. Это поэтика «опущенных звеньев», когда для восстановления сюжета стихотворения нужно восстановить образ-посредник. Образ-посредник может таиться в скрытой и переработанной цитате, зашифрованном подтексте, который с большим трудом поддаётся восстановлению неподготовленным читателем. Но он может скрываться и в сугубо индивидуальной иррациональной логике авторского мышления, взламывающего готовое слово и извлекающей его скрытые смысловые глубины, часто архаичные, восходящие к древним мифологическим моделям.
И всё же темноты могут неожиданно высветляться: воронежская земля, земля изгнания, воспринята как целомудренное чудо русского ландшафта. Суровый и чистый пейзаж служит фоном для торжествующей темы человеческого достоинства, неподвластного ударам судьбы:

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто сам полуживой,
У тени милостыни просит.
Отвергая участь «тени», но всё же «тенью» ощущая и себя, поэт проходит через последнее искушение - попросить милостыни у того, от кого зависит «возвращение в жизнь». Так в начале 1937 года появляется «Ода» Сталину - гениально составленный каталог штампованных славословий вождю. Однако «Ода» Мандельштама не спасла. Её герой - хитрый и мстительный - мог начать со своими обидчиками лукавую игру, подарить надежду - как и произошло с Мандельштамом, который в мае 1937 года отбыл назначенный срок воронежской ссылки и вернулся в Москву. Но простить и забыть оскорбление Сталин не мог: в мае 1938 года следует новый арест (формально - по письму наркому Ежову генерального секретаря Союза Советских писателей В. П. Ставского).
 Поэта отправляют по этапу на Дальний Восток. 27 декабря 1938 года в пересылочном лагере «Вторая речка» под Владивостоком доведённый до грани безумия Мандельштам умирает. По свидетельству некоторых заключённых - на сорной куче.
Поэта отправляют по этапу на Дальний Восток. 27 декабря 1938 года в пересылочном лагере «Вторая речка» под Владивостоком доведённый до грани безумия Мандельштам умирает. По свидетельству некоторых заключённых - на сорной куче.
Наследие Мандельштама, спасённое от уничтожения его вдовой, с начала 1960-х годов начинает активно входить в культурный обиход интеллигенции эпохи «оттепели». Вскоре имя поэта становится паролем для тех, кто хранил или пытался восстановить память русской культуры, причём оно осознавалось как знак не только художественных, но и нравственных ценностей. Показательны слова известного литературоведа Ю. И. Левина, представителя поколения, «открывшего» Мандельштама: «Мандельштам - призыв к единству жизни и культуры, к такому глубокому и серьёзному... отношению к культуре, до которого наш век, видимо, ещё не в состоянии подняться... Мандельштам - ...промежуточное звено, предвестие, формула перехода от нашей современности к тому, чего «ещё нет», но что «должно быть». Мандельштам должен «что-то изменить в строении и составе» не только русской поэзии, но и мировой культуры».
Вадим Полонский
(Универсальная онлайн-энциклопедия «Кругосвет».
Печатается с сокращениями)

Осип Мандельштам: «Не на вчера, не на сегодня, а навсегда»
…поэзия есть сознание своей правоты. Воздух стиха есть неожиданное.
Обращаясь к известному, мы можем сказать только известное.
«О собеседнике», 1913
Душевный строй поэта располагает к катастрофе.
«А. Блок», 1921 - 1922
Из эссе «Угль, пылающий огнём»
…Мы, стихотворцы, часто действуем, заколдованные ритмами данной литературной эпохи, даже данного десятилетия… Как вырваться из этого колдовского плена? Никакие советы не помогут... Умение слушать ритм есть умение врождённое, от Бога данное. Суть в том, чтобы мысль, слово и ритм возникали одновременно...
Мандельштам открыл для себя, что слово не живёт в стихе отдельной жизнью, что оно связано семейными, родственными, дружескими, историческими, общественными узами с другими словами, эти узы, существуя, нередко сокрыты от читателей, и поэт обязан их раскрыть и даже пойти на тот риск, что слово будет связано со словом не прямой связью, а с помощью непрямых, не сразу замечаемых, но бесспорно, физически существующих связей, порой более сильных, чем наглядные прямые. Вот они-то и рождают ритм, сами обязанные своим появлением ритму...
Надежда Мандельштам
Моё завещание
 …Я прошу Будущее навечно, то есть пока издаются книги и есть читатели этих стихов, закрепить права на это наследство за теми людьми, которых я назову в специальном документе. Пусть их всегда будет одиннадцать человек в память одиннадцатистрочных стихов Мандельштама, а на место выбывших пусть оставшиеся сами выбирают заместителей.
…Я прошу Будущее навечно, то есть пока издаются книги и есть читатели этих стихов, закрепить права на это наследство за теми людьми, которых я назову в специальном документе. Пусть их всегда будет одиннадцать человек в память одиннадцатистрочных стихов Мандельштама, а на место выбывших пусть оставшиеся сами выбирают заместителей.
 Этой комиссии наследников я поручаю бесконтрольное распоряжение остатками архива, издание книг, перепечатку стихов, опубликование неизданных материалов… Но я прошу эту комиссию защищать это наследство от государства и не поддаваться ни его застращиваниям, ни улещиванию. Я прожила жизнь в эпоху, когда от каждого из нас требовали, чтобы всё, что мы делали, приносило «пользу государству». Я прошу членов этой комиссии никогда не забывать, что в нас, в людях, самодовлеющая ценность, что не мы призваны служить государству, а государство нам, что поэзия обращена к людям, к их живым душам и никакого отношения к государству не имеет... Почему государство смеет заявлять себя наследником свободного человека?.. Тем более в тех случаях, когда память об этом человеке живёт в сердцах людей, а государство делает всё, чтобы её стереть…
Этой комиссии наследников я поручаю бесконтрольное распоряжение остатками архива, издание книг, перепечатку стихов, опубликование неизданных материалов… Но я прошу эту комиссию защищать это наследство от государства и не поддаваться ни его застращиваниям, ни улещиванию. Я прожила жизнь в эпоху, когда от каждого из нас требовали, чтобы всё, что мы делали, приносило «пользу государству». Я прошу членов этой комиссии никогда не забывать, что в нас, в людях, самодовлеющая ценность, что не мы призваны служить государству, а государство нам, что поэзия обращена к людям, к их живым душам и никакого отношения к государству не имеет... Почему государство смеет заявлять себя наследником свободного человека?.. Тем более в тех случаях, когда память об этом человеке живёт в сердцах людей, а государство делает всё, чтобы её стереть…
 Вот почему я прошу членов комиссии, то есть тех, кому я оставлю наследство Мандельштама, сделать всё, чтобы сохранить память о погибшем - ему и себе на радость. А если моё наследство принесёт какие-нибудь деньги, тогда комиссия сама решает, что с ними делать - пустить ли их по ветру, отдать ли их людям или истратить на собственное удовольствие. Только не создавать на них никаких литературных фондов или касс, стараться спустить эти деньги попроще и почеловечнее в память человека, который так любил жизнь и которому не дали её дожить. Лишь бы ничего не досталось государству и его казённой литературе. И ещё я прошу не забывать, что убитый всегда сильней убийцы, а простой человек выше того, кто хочет подчинить его себе. Такова моя воля, и я надеюсь, что Будущее, к которому я обращаюсь, уважит её хотя бы за то, что я отдала жизнь на хранение труда и памяти погибшего.
Вот почему я прошу членов комиссии, то есть тех, кому я оставлю наследство Мандельштама, сделать всё, чтобы сохранить память о погибшем - ему и себе на радость. А если моё наследство принесёт какие-нибудь деньги, тогда комиссия сама решает, что с ними делать - пустить ли их по ветру, отдать ли их людям или истратить на собственное удовольствие. Только не создавать на них никаких литературных фондов или касс, стараться спустить эти деньги попроще и почеловечнее в память человека, который так любил жизнь и которому не дали её дожить. Лишь бы ничего не досталось государству и его казённой литературе. И ещё я прошу не забывать, что убитый всегда сильней убийцы, а простой человек выше того, кто хочет подчинить его себе. Такова моя воля, и я надеюсь, что Будущее, к которому я обращаюсь, уважит её хотя бы за то, что я отдала жизнь на хранение труда и памяти погибшего.
Надежда Мандельштам (1899 - 1980). Некролог
Из восьмидесяти одного года своей жизни Надежда Мандельштам девятнадцать лет была женой величайшего русского поэта нашего времени, Осипа Мандельштама, и сорок два года - его вдовой. Остальное пришлось на детство и юность… «Надя самая счастливая из вдов», - говоря это, Анна Ахматова имела в виду то всеобщее признание, которое пришло к Мандельштаму об эту пору. Самое замечание относилось, естественно, в первую очередь к судьбе самого поэта, собрата по перу, но при всей его справедливости оно свидетельствует о взгляде извне. К тому времени, когда вышеупомянутое признание стало нарастать, Н. Я. Мандельштам была уже на седьмом десятке, весьма шаткого здоровья и почти без средств. К тому же признание это, даже будучи всеобщим, всё же не распространялось на «одну шестую земного шара», на самое Россию. За спиной у Надежды Яковлевны уже были два десятка лет вдовства, крайних лишений, великой - списывающей все личные утраты - войны и ежедневного страха быть схваченной сотрудниками госбезопасности как жена врага народа...
Впервые я встретился с ней именно тогда, зимой 1962 года, во Пскове, куда с приятелями отправился взглянуть на тамошние церкви (прекраснейшие, должен сказать, во всей империи). Прослышав о нашем намерении поехать во Псков, Анна Андреевна Ахматова посоветовала нам навестить Надежду Мандельштам и попросила передать ей несколько книг. Тогда я впервые и услышал это имя.
Жила она в двухкомнатной коммунальной квартире... Комната была размером со среднюю американскую ванную - восемь квадратных метров. Большую часть площади занимала железная полуторная кровать; ещё там были два венских стула, комод с небольшим зеркалом и тумбочка, служившая и столом…
В годы её наивысшего благополучия, в конце шестидесятых - начале семидесятых, в её однокомнатной квартире на окраине Москвы самым дорогостоящим предметом были часы с кукушкой на кухонной стене. Вора бы здесь постигло разочарование, как, впрочем, и тех, кто мог явиться с ордером на обыск.
В те «благополучные» годы, последовавшие за публикацией на Западе двух томов её воспоминаний, эта кухня стала поистине местом паломничества. Почти каждый вечер лучшее из того, что выжило или появилось в послесталинский период, собиралось вокруг длинного деревянного стола, раз в десять побольше, чем псковская тумбочка. Могло показаться, что она стремится наверстать десятилетия отверженности. Я, впрочем, как-то лучше помню её в псковской комнатушке или примостившейся на краю дивана в ленинградской квартире Ахматовой, к которой она иногда украдкой наезжала из Пскова, или возникающей из глубины коридора у Шкловских в Москве - там она ютилась, пока не обзавелась собственным жильём. Вероятно, я помню это яснее ещё и потому, что там она была больше в своей стихии - отщепенка, беженка, «нищенка-подруга», как назвал её в одном стихотворении Мандельштам, и чем она, в сущности, и осталась до конца жизни…
Поэзия и вообще всегда предшествует прозе; во многих отношениях это можно сказать и о жизни Надежды Яковлевны. И как человек, и как писатель она была следствием, порождением двух поэтов, с которыми её жизнь была связана неразрывно: Мандельштама и Ахматовой . И не только потому, что первый был её мужем, а вторая другом всей её жизни… Механизмом, скрепившим узы этого брака, равно как и узы этой дружбы, была необходимость запоминать и удерживать в памяти то, что нельзя доверить бумаге, то есть стихи обоих поэтов…
 И всё это мало-помалу вросло в неё. Потому что если любовь и можно чем-то заменить, то только памятью. Запоминать - значит восстанавливать близость. Мало-помалу строки этих поэтов стали её сознанием, её личностью. Они давали ей не только перспективу, не только угол зрения; важнее то, что они стали для неё лингвистической нормой… И по содержанию, и по стилю её книги суть лишь постскриптум к высшей форме языка, которой, собственно говоря, является поэзия.
И всё это мало-помалу вросло в неё. Потому что если любовь и можно чем-то заменить, то только памятью. Запоминать - значит восстанавливать близость. Мало-помалу строки этих поэтов стали её сознанием, её личностью. Они давали ей не только перспективу, не только угол зрения; важнее то, что они стали для неё лингвистической нормой… И по содержанию, и по стилю её книги суть лишь постскриптум к высшей форме языка, которой, собственно говоря, является поэзия.
Это их, стихи, а не память о муже, она спасала. Их, а не его вдовой была она в течение сорока двух лет. Конечно, она его любила, но ведь и любовь сама по себе есть самая элитарная из страстей. Только в контексте культуры она приобретает объёмность и перспективу... Она была вдовой культуры, и я думаю, что к концу своей жизни любила своего мужа больше, чем в начале брака...
В последний раз я видел её 30 мая 1972 года в кухне московской квартиры. Было под вечер; она сидела и курила в глубокой тени, отбрасываемой на стену буфетом. Тень была так глубока, что можно было различить в ней только тление сигареты и два светящихся глаза. Остальное - крошечное усохшее тело под шалью, руки, овал пепельного лица, седые пепельные волосы - всё было поглощено тьмой. Она выглядела, как остаток большого огня, как тлеющий уголёк, который обожжёт, если дотронешься.
Отщепенец
21 января 1937 года в письме Тынянову, «таком судорожном и трудном», «поистине… из глубины, из бездны» (С. С. Аверинцев), Мандельштам пишет:
«Дорогой Юрий Николаевич!
Хочу Вас видеть. Что делать? Желание законное.
Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я ещё отбрасываю тень. Но последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в её строении и составе.
Не отвечать мне легко. Обосновать воздержание от письма или записки невозможно. Вы поступите, как захотите.
Ваш О. М.»
 П
очему адресатом для исповеди воронежский ссыльный выбрал вполне благополучного советского литератора? Нет никаких свидетельств близких отношений между ними. Всё так - и не так. Еврей, посвятивший жизнь русской литературе - и оставшийся в ней навсегда, «кое-что изменив в её строении и составе», - пишет другому еврею, чьё имя дорого каждому культурному человеку, говорящему по-русски. И автор, и адресат тяжело болели, дни обоих были сочтены. Стало быть, Тынянов для Мандельштама - «дважды свой» - и, возможно, поэт надеялся, что будет понят, поддержан. Надо ли говорить, как он нуждался в такой поддержке…
П
очему адресатом для исповеди воронежский ссыльный выбрал вполне благополучного советского литератора? Нет никаких свидетельств близких отношений между ними. Всё так - и не так. Еврей, посвятивший жизнь русской литературе - и оставшийся в ней навсегда, «кое-что изменив в её строении и составе», - пишет другому еврею, чьё имя дорого каждому культурному человеку, говорящему по-русски. И автор, и адресат тяжело болели, дни обоих были сочтены. Стало быть, Тынянов для Мандельштама - «дважды свой» - и, возможно, поэт надеялся, что будет понят, поддержан. Надо ли говорить, как он нуждался в такой поддержке…
Ответа не было. Дошло письмо, затерялось или было перехвачено - неизвестно. Текст сохранился лишь благодаря предусмотрительности «ясной Наташи» - Н. Е. Штемпель, сделавшей копию.
А за несколько лет до письма, когда ещё не было ни «воронежских тетрадей», ни «кремлёвского горца», когда покровительство Бухарина казалось надёжным и долгосрочным, написано стихотворение, в котором предчувствие скорой гибели звучит отчётливо и зловеще:
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный дёготь труда...
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к рождеству отразилась семью плавниками звезда.
И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я - непризнанный брат, отщепенец в народной семье -
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.
Лишь бы только любили меня эти мёрзлые плахи,
Как, нацелясь на смерть, городки зашибают в саду, -
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорище найду.
В одной строфе соседствуют «плаха», «смерть» и «казнь». Лёгкость, обыденность этой самой смерти-игры вызывают ужас, оторопь.
 У читателя, но не у поэта. Глядя в глаза своему будущему, он и не думает спорить с ним. Ему мешает только, что он «непризнанный брат, отщепенец в народной семье». И чтобы подняться над этой «непризнанностью», переступить через неё, Осип Мандельштам готов принять всё. Даже лютую «петровскую» казнь.
У читателя, но не у поэта. Глядя в глаза своему будущему, он и не думает спорить с ним. Ему мешает только, что он «непризнанный брат, отщепенец в народной семье». И чтобы подняться над этой «непризнанностью», переступить через неё, Осип Мандельштам готов принять всё. Даже лютую «петровскую» казнь.
Такова плата за бессмертие «величайшего русского поэта нашего времени».
апрель 2016
Иллюстрации:
портрет Поэта - художник Лев Бруни, 1916;
фото родителей Осипа Эмильевича;
фото О. Э. Мандельштама и Н. Я. Мандельштам разных лет;
фото Н. Е. Штемпель;
обложки книг О. Э. Мандельштама и Н. Я. Мандельштам;
воронежский памятник О. Э. Мандельштаму;
иллюстрации - из книги Олега Лекманова «Осип Мандельштам. Жизнь поэта» (серия «ЖЗЛ»)
и из свободных источников в интернете.

Стихотворения, посвящённые Осипу Мандельштаму
Марина Цветаева
Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас - через сотни
Разъединяющих вёрст.
На страшный полёт крещу Вас:
Лети, молодой орёл!
Ты солнце стерпел, не щурясь, -
Юный ли взгляд мой тяжёл?
Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед…
Целую Вас - через сотни
Разъединяющих лет.
Анна Ахматова
Воронеж
О. М<андельштаму>
И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским - вороны,
Да тополя, и свод светло-зелёный,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней,
Как будто пьют за ликованье наше
На брачном пире тысячи гостей.
А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза в свой черёд.
И ночь идёт,
Которая не ведает рассвета.
Арсений Тарковский
Поэт
Жил на свете рыцарь бедный...
А. С. Пушкин
Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт;
Книга порвана, измята,
И в живых поэта нет.
Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задёрганная честь.
Как боялся он пространства
Коридоров! Постоянства
Кредиторов! Он, как дар,
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.
Так елозит по экрану
С реверансами, как спьяну,
Старый клоун в котелке
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.
Оперённый рифмой парной,
Кончен подвиг календарный, -
Добрый путь тебе, прощай!
Здравствуй, праздник гонорарный,
Чёрный белый каравай!
Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лёту брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.
Так и надо жить поэту.
Я и сам сную по свету,
Одиночества боюсь,
В сотый раз за книгу эту
В одиночестве берусь.
Там в стихах пейзажей мало,
Только бестолочь вокзала
И театра кутерьма,
Только люди как попало,
Рынок, очередь, тюрьма.
Жизнь, должно быть, наболтала,
Наплела судьба сама.

Памятники Осипу и Надежде Мандельштам установлены в Санкт-Петербурге и Амстердаме...
Белла Ахмадулина
Памяти Осипа Мандельштама
В том времени, где и злодей -
лишь заурядный житель улиц,
как грозно хрупок иудей,
в ком Русь и музыка очнулись.
Вступленье: ломкий силуэт,
повинный в грациозном форсе.
Начало века. Младость лет.
Сырое лето в Гельсингфорсе.
Та - Бог иль барышня? Мольба -
чрез сотни вёрст любви нечёткой.
Любуется! И гений лба
застенчиво завешен чёлкой.
Но век желает пировать!
Измученный, он ждёт предлога -
и Петербургу Петроград
оставит лишь предсмертье Блока.
Знал и сказал, что будет знак
и век падёт ему на плечи.
Что может он? Он нищ и наг
пред чудом им свершённой речи.
Гортань, затеявшая речь
неслыханную,- так открыта.
Довольно, чтоб её пресечь,
и меньшего усердья быта.
Ему - особенный почёт,
двоякое злорадство неба:
певец, снабжённый кляпом в рот,
и лакомка, лишённый хлеба.
Из мемуаров: «Мандельштам
любил пирожные». Я рада
узнать об этом. Но дышать -
не хочется, да и не надо.
Так значит, пребывать творцом,
за спину заломившим руки,
и безымянным мертвецом
всё ж недостаточно для муки?
И в смерти надо знать беду
той, не утихшей ни однажды,
беспечной, выжившей в аду,
неутолимой детской жажды?
В моём кошмаре, в том раю,
где жив он, где его я прячу,
он сыт! А я его кормлю
огромной сладостью. И плачу.
Александр Кушнер
Фотография
Фотография тридцать шестого, наверное, года.
Театральная труппа. Домашнее что-то, как сода,
Закулисное, рыхлое в воздухе растворено.
Двадцать два человека уткнулись во что-то одно.
Двадцать два человека уткнулись, наверное, в пьесу
Про слугу двух господ или так: про вдову и повесу.
Лишь один человек не глядит в распечатанный текст,
Он застыл, словно гипс, словно известь, цемент и асбест.
В сером пепле табачном и брюки его, и ладони,
Старику и неряхе, о, как ему скучен Гольдони!
Он глядит, а куда? Никогда не узнаем - в окно,
Где воронежский грач прошлогоднее топчет сукно.
Колченогих столов пузырями вспухает фанера.
Сколько жизни осталось? Не спрашивай, что за манера
Разбегаться с вопросом? В окне на нетвёрдых ногах
Выступают грачи. Он и сам здесь на птичьих правах.
Он и сам кое-как, еле держится, сбоку припёку.
Почему же так любит он тёплую эту мороку
И в преснятину эту, тосчищу, - вот глупая роль, -
Каждый раз подсыпает свою стихотворную соль!
Юрий Левитанский
а услышалось - глас наяву.
Я трамвайная вишенка, - он мне сказал,
прозревая воочью иные миры, -
я трамвайная вишенка страшной поры
и не знаю, зачем я живу.
Это Осип Эмильич шепнул мне во сне,
но слова эти так и остались во мне,
будто я, будто я, а не он,
будто сам я сказал о себе и о нём -
мы трамвайные вишенки страшных времён
и не знаем, зачем мы живём.
Гумилёвский трамвай шёл над тёмной рекой,
заблудившийся в красном дыму,
и Цветаева белой прозрачной рукой
вслед прощально махнула ему.
И Ахматова вдоль царскосельских колонн
проплыла, повторяя, как древний канон,
на высоком наречье своём:
Мы трамвайные вишенки страшных времён.
Мы не знаем, зачем мы живём.
О российская муза, наш гордый Парнас,
тень решёток тюремных издревле на вас
и на каждой нелживой строке.
А трамвайные вишенки русских стихов,
как бубенчики в поле под свист ямщиков,
посреди бесконечных российских снегов
всё звенят и звенят вдалеке.
Инна Лиснянская
Мы с тобой на кухне посидим.
О. Мандельштам
Опять эта вспышка
Больного ума:
Надзорная вышка,
Под нею тюрьма
И каторжный номер
В той бане, где, гол,
От голода помер
Всё было не так.
Несли его прямо
Сквозь солнечный мрак
Два ангела Божьих
В эдемский предел,
И призрак прохожий
Вослед им глядел.
Борис Суслович
Два посвящения О. М.
Передышка
Свалилось на голову счастье:
Считай, четыре года впрок.
Случись обыкновенный мастер
Взамен поэта, тот бы смог
Отбарабанить на потребу
Дня подходящие слова…
Но мастером ты сроду не был -
И под сурдинку петь едва
Умел. Щелкунчик-пустомеля,
Весь век прощёлкав для души,
На вшивой лагерной постели,
Пока не захрипишь, пляши!
Перекличка
не спрятаться мне от великой муры
О. Мандельштам, 1931
От великой муры не убраться во тьму,
Под защиту последнего сна,
Ни помех для неё, ни препон - потому,
Что всеведуща нынче она;
Что отыщется враз стиховед-доброхот,
Разумеющий в жизни твоей,
Что её ненавязчиво перетрясёт
До помеченных ордером дней;
Что построит в затылок колонну стихов,
И погонит служить палачу…
От вселенской муры лезть на стенку готов.
Выть по-волчьи. Но лучше - смолчу.
Борис Марковский
Памяти Мандельштама
состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.
умер Осип Мандельштам.
Церковная хрупкая свечка
горит и горит, не сгорая…
Зловещая Чёрная речка
и чёрная речка Вторая.
Монету - орёл или решка -
подбросил, со смертью играя…
Зловещая Чёрная речка
и чёрная речка Вторая.
Плохая, должно быть, примета -
играть рукояткой узорной
упавшего в снег пистолета
на речке январской и чёрной.
Нечаянный выстрел, осечка,
и эхо вороньего грая.
Зловещая Чёрная речка
и чёрная речка Вторая…
Не чуя огромной страны,
он бредил ключом Иппокрены
и видел кровавые сны -
грядущие казни, измены.
Он был собеседник ничей.
И вот отыскалось местечко -
болотистый мутный ручей,
Вторая, декабрьская, речка.
Особенно интересна и одновременно сложна для восприятия интеллектуальная и философская поэзия акмеиста Осипа Эмильевича Мандельштама. В статье рассмотрены становления поэта, акмеистический период его творчества, сборники "Камень", "Tristia", "Вторая книга", прозаическая книга "Разговор о Данте", московский и воронежский циклы стихов.
Осип Мандельштам родился 3 (15) января 1891 года в Варшаве в семье зажиточного купца. Рос в Петербурге и Павловске, окруженный, с одной стороны, косной обывательской средой, а с другой — произведениями великой русской культуры.
Мандельштам получил блестящее образование. Сначала он занимается в Тенишевском училище, глубоко овладевая гуманитарными науками, зачитываясь Герценом и через призму его публицистики воспринимая бурные революционные события 1905 года. Значительно глубже было его увлечение поэзией, театром и музыкой. Захваченный также интересом к истории, философии и литературе, Мандельштам с началом реакции уезжает за границу, где находится с 1907 по 1910 год.
Формируются эстетические взгляды поэта: он утверждает первостепенность искусства в жизни и его превосходство над действительностью. У него свои представления о прекрасном и возвышенном. У него было устойчивое трагедийное ощущение того, что:
Неутомимый маятник качается
И хочет быть моей судьбой
Мандельштам рано начал писать стихи. Первые его поэтические опыты относятся к 1905-1906 годам. Вопреки воле родителей, весьма неодобрительно относившихся к начинаниям сына, юный поэт отстоял свою творческую независимость и уже в 1910 году опубликовал первые вещи — "Невыразимая печаль…", "Дано мне тело — что мне делать с ним…" (1909), "Медлительнее снежный улей…" и "Silentium"(1910) — в журнале "Аполлон".
А. Ахматова полагала, что у Мандельштама нет учителя. Между тем одного из учителей его можно назвать без колебаний. Это Тютчев. Уже в "Silentium" затрагивает тему, когда-то разработанную в тютчевском стихотворении о безмолвии.
Мандельштам начинал с увлечения символизмом, к которому приобщил его непосредственный учитель В.В. Гиппиус. Юный поэт посещает "башню" Вяч. Иванова, высоко оценившего талант начинающего автора, занимается у него стихосложением, вступает с ним в переписку. Влияние Вяч. Иванова отчетливо скажется в "Оде Бетховену". Мандельштам откликается на поэзию Ф. Сологуба, зачитывается Блоком. У него, как и у символистов, обнаруживается особое пристрастие к миру звуков, что объясняется исключительной музыкальностью, "врожденным ритмом", широкой образованностью в сфере искусства, чутким поэтическим слухом. Упоминанием о звуке начинается первое стихотворение Мандельштама 1908 года, а в философской медитации "Silentium" утверждается, что музыка — "первооснова жизни".
В 1909 году Мандельштам знакомится с И. Анненским, посещает его, ощущает тесную связь с его поэзией и даже называет его "одним из самых настоящих подлинников русской поэзии". Еще одни поэтическим наставником Мандельштама стал М. Кузмин. Символистические истоки поэзии Мандельштама коренятся и в развитии русских религиозных идей, органически воспринятых им из философских трактатов К. Леонтьева, В. Соловьева, Н. Бердяева, П. Флоренского.
У молодого Мандельштама образы носят, однако, еще бесплотный характер и достаточно зыбки. Грань между действительным и мнимым, реальным и ирреальным стирается. Юный поэт верит в заклинательность слова, носящего магическое звучание:
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись…
В начале 1910-х годов Мандельштам сближается с акмеистами, осознавшими кризис символизма, и входит в круг этих поэтов. Он активно сотрудничает в "Аполлоне" и "Гиперборее" и увлеченно разрабатывает поэтику акмеизма как теоретик и практик. Так, в статье "Утро акмеизма", написанной в 1913 году, Мандельштам обосновывает тезис о поэтическом зодчестве, об архитектоничноти поэзии.
В эту пору существенно меняются тематика, образный строй, стиль и колорит стихов Мандельштама, хотя методическая основа их остается неизменной. Одной из характерных особенностей поэтики Мандельштама является усвоенная им предметность и вещественность. Отмеченная предметность наиболее рельефно сказывается в таких стихах Мандельштама 1910-х годов, как "В огромном омуте прозрачно и темно…", "Как тень внезапных облаков…", "Как кони медленно ступают…", "Смутно-дышащими листьями…". Можно отметить такие его поэтические образы, как "тоненький бисквит", "в конторе сломанные стулья", "пены бледная сирень в черно-лазоревом сосуде", "лед руки", "цветочная проснулась ваза" и другие.
Также в стихах проявляется еще одна интересная примета поэтики Мандельштама. Он склонен наделять предметы ощутимым весом, тяжестью. Поэт чуток к фактуре вещи, ее материалу, ее плотности: "чтоб мрамор сахарный толочь", "мазные сливки", "застыла тоненькая сетка", художник свой рисунок "выводит на стеклянной тверди".
Не в этом ли интересе к тяжести и материалу коренится пристрастие Мандельштама к мотиву камня? Поэт редко употребляет само слово "камень", но мы постоянно чувствуем этот строительный материал. И при раскрытии темы творчества поэт говорит о преодолении "тяжести недоброй", обретении легкости для дерзновенного полета мысли, вдохновения. Поэтому наряду с камнем он поэтизирует мир идей, музыку, а в безграничном пространстве — небо и звезды.
Также стоит отметить, что параллельно с данной тематикой в поэзии Мандельштама вызревает особая тема. Речь идет о частых в его творчестве образах архитектуры. Очень интересны его стихи о Софийском соборе в Константинополе, о сооружениях античности, о Соборе Парижской Богоматери ("Notre Dame"), об Адмиралтействе. Это произведения о каменных шедеврах, стихи философского и историко-культурного содержания.
Говоря о внешнем облике Notre Dame, поэт отмечает массивность стен и пытается разгадать наружный "тайный план" зодчего. Он упоминает о "подпружных арок силе". Называет поэт и "чудовищные ребра" — контрфорсы, наружные опоры, эти причудливые ритмичные выступы храма. Он именует колоннаду "непостижимым лесом", нефы и капеллы — "стихийным лабиринтом", а весь интерьер — "души готической рассудочной пропастью". Итак, как видим перед нами не последовательное описание архитектурного памятника, а цепь ассоциативных деталей, передающих впечатление от сооружения. Это тоже важные черты поэтики Мандельштама — ассоциативность образов и импрессионизм письма.
В 1913 году вышел первый поэтический сборник поэта "Камень" . Эта книга сразу же сделала имя Мандельштама широко известным. Сборник открывался четверостишием:
Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной…
В "Камне" явственно обнаружилась еще одна характерная особенность акмеизма Мандельштама — его "тоска по мировой культуре". Она слышится в стихах о музыке, архитектуре, литературе, театре и кино ("Бах", "Ода Бетховену", "Домби и сын", "Я не увижу знаменитой "Федры"…", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса…", "Кинематограф").
Однако в стихах поэта жизнь предстает во всем богатстве физических и духовных проявлений. Поэтому для него равно прекрасны и ветер, играющий косматой тучей, и "тонкий луч на скатерти измятой", и крылатая чайка в ее полете, и "невыразимая печаль" героя.
Сопрягать образы мировой культуры и явления жизни Мандельштаму помогает ассоциативное мышление, многочисленные ряды предметов, наименований, признаков, цепочки связей, создаваемые его и нашим воображением.
Стихотворение "петербургские строфы" интересно ассоциативным сближением ряда историко-культурных пластов, в частности примет пушкинской эпохи и деталей современного Петербурга XX века (пароходы, броненосец, бензин, моторы). Поэт прослеживает и выявляет глубинные связи и неожиданные взаимопроникновения явлений, отдаленных во времени и пространстве.
Сборник "камень" выявил и неповторимое своеобразие Мандельштама среди акмеистов. Для поэта характерно усиление роли художественного контекста с ключевыми словами-сигналами; вера в возможность познать иррациональное и пока необъяснимое; раскрытие темы космоса и попытка уяснить особое место в нем личности; нехарактерное для акмеизма устремление через миг к вечности.
Октябрьскую революцию поэт встретил как нечто неотвратимое. С одной стороны, его увлекла грандиозность происходящего, с другой — не покидали недобрые, настораживающие предчувствия, ощущение "ярма насилия и злобы", о чем он сказал в стихотворении "Когда октябрьский нам готовил временщик…" (1917).
Неоднозначно может быть воспринято стихотворение 1918 года "Прославим, братья сумерки свободы…". Здесь слышится гимн движению, подъему, сдвигу. В унисон историческому событию сама стихия природы "щебечет, движется, живет". Тут же "свобода" сопряжена с "сумерками", понятием, обозначающим и ранний рассвет, и наступление мрака.
В 1918 году поэт отправляется в Крым, где в последствии его заключили в острог по пути в Тифлис. Так начались мытарства поэта в сумерках свободы". Они продолжились и в пору пребывания в Москве, куда он перебрался в 1922 году вместе со своей женой.
В том же году вышла новая книга О. Мандельштама — "Tristia". Ее название представляет собой латинское слово, обозначающее "скорби". Этот заголовок характеризовал основную тональность второго сборника стихов и намечал преемственность с античной поэзией. Книга объединила стихи 1915-1920 годов, созданные в период войны и революции. Любовь — еще одна тема "Tristia". Переданная через призму античности, она носит возвышенный характер и предстает как одна из великих ценностей жизни. Важное место в сборнике занимают стихи о Петербурге: "В Петрополе прозрачном мы умрем…", "Мне холодно. Прозрачная весна…", "На страшной высоте блуждающий огонь!.." и "В Петербурге мы сойдемся снова…". В этих стихах передается ощущение пустоты, гибели и распада.
В 1923 году Мандельштам публикует новый сборник — "Вторая книга", воспроизведя частично "Tristia" и дополнив книгу стихами 1921-1922 годов. Сборник свидетельствует об укреплении поэта на позициях нового классицизма, о стремлении к строгой стихотворной форме, высокому одическому стилю, приподнятым интонациям, к предельной простоте языка, которая не исключала смелого эксперимента: обновления смысловых связей слов, сближения разных по значению единиц речи. Постепенно поэтическая речь освобождается от прежней вещности и материальности, и эту новую свою особенность Мандельштам обосновывает.
Эти перемены в творчестве поэта отразила и его проза 20-х годов, в которой много остроумных стилистических изобретений, игрового начала. Такова книга "Шум времени" (1925), где повествуется о ранних жизненных и художественных впечатлениях поэта. Сюда вошли, например, очерк "Музыка в Павловске", новеллы "Старухина птица" и "Мазеса да Винчи", основанные на феодосийских воспоминаниях.
Между тем в самой поэзии Мандельштама наступает период длительного молчания. После того как он в 1925 году получил категорический отказ издательства напечатать его стихи, наступает пятилетняя немота. Подтвердилось пророчество поэта о том, что "губы оловом зальют".
Правда, в 1928 году при помощи влиятельных друзей удается выпустить ранее задержанную книгу "Стихотворения", но в ней были вещи, созданные лишь до середины десятилетия. Ценность сборника заключается в значительном расширении каждого их трех разделов ("Камень", "Tristia" и "1921-1925").
Внешних признаков времени в этих стихах мало. Однако дыхание времени и размышление о нем постоянны. Поэт не услышан веком, не обласкан им, не находит себя в нем. В стихотворении "Кому зима — арак и пунш голубоглазый…" с горечью упоминается "крутая соль… обид" и передается чувство беспредельного одиночества и обреченности на гибель.
Век в одноименном стихотворении кажется лирическому герою зверем, безжалостно преследующим его. Но и сам этот век представляется жертвой с разбитым позвоночником. Ощущение невыносимости бытия живет и в стихотворении "Концерт на вокзале", где музыка не облегчает страданий и боли от встречи с "железным миром" и глухими "Стеклянными сенями", когда:
Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит…
Начало 30-х годов в жизни и творчестве Мандельштама было ознаменовано поездкой в Армению, определившей глубокий интерес поэта к стране яркой древней культуры. Результатом путешествия стал цикл "Армения" (1931), состоящий из 12 стихотворений. Жизнь тосклива, на лицах — скорбь и слезы, и поэта не покидают мрачные предчувствия. С ними Мандельштам вошел в 30е годы.
После опубликования в "Новом мире" стихотворного цикла "Армения" атмосфера вокруг Мандельштама разрядилась, о нем стали вновь говорить с восхищением. Очерки "Путешествие в Армению" (1933), написанные в жанре размышлений, еще более укрепили позиции поэта. К этим эссе по-своему примкнула еще одна прозаическая книга — "Разговор Данте" (1933), интереснейшее произведение, дающее новую, свежую интерпретацию "Божественной комедии" и содержащее размышления о поэзии.
Многообразные культурно-исторические ассоциации часто встречаются и в стихах Мандельштама 30-х годов. Он обращается к Петрарке, Шуберту и Моцарту, Ариосто и Тассо, классицизму и импрессионизму в искусстве, русской поэзии и немецкой речи, Корее и Египту. Эти дорогие для него образы замещают те связи с реальной жизнью, которые у Мандельштама оборваны, наполняют вакуум между поэтом и действительностью. Особенно значимы для Мандельштама русские поэты, его предшественники — Державин, Батюшков, Тютчев.
Гораздо существенней здесь становятся размышления о сломанной судьбе поэта. Они получают прямое или опосредованное выражение во многих стихотворениях. Это и внешнее заметное старение ("Еще далеко мне до патриарха…"), и внутренняя надломленность ("Куда как страшно нам с тобой…"), и безысходное чувство одиночества ("…я один на всех путях"), и скорбное сознание отторгнутости ("Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье"). Поэт тяжело пережил драму общественного непризнания.
В произведениях поэта живет чувство безотчетного страха, дурных предвестий, возможной катастрофы. Однако, преодолевая эти настроения, поэт намечает и развивает тему поединка творца и тирана. Эта тема завуалированно звучит в стихотворении "Я с дымящей лучиной вхожу..", где рисуется образ "шестипалой неправды", которая ассоциировалась со Сталиным. Лирический герой знает, что ждет его, он приготовлен к самому худшему: мгновенному поеданию или ссылке в сибирские степи, "где течет Енисей".
Думая о своем, поэт все чаще выходит к общему, современному. В стихотворении "Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым…" уже говорится о злободневных кровоточащих ранах родной страны и ее народа. "Помоги, Господь, эту ночь прожить", — молит он за свою и чужие жизни в этом гиблом месте, из которого надо бежать, чтобы "нас никто не отыскал" ("Мы с тобой на кухне посидим…").
Те же настроения живут и в московском цикле, отражающем новый период пребывания в столице (1931-1933). Оказывается, и здесь не спрятаться "за извозчичью спину" города "от великой муры" современности, от "срамоты", зияющей из "черных дыр". Поэт все чаще думает о своей ответственности перед временем, о своей неизбежной причастности к нему.
Доказательством и выражением этой причастности стало высокогражданственное стихотворение "Мы живем, под собою не чуя страны…" (1933). Это не только исключительно хлесткая эпиграмма, направленная в адрес Сталина, это памфлет против всей системы террора, репрессий, произвола, страха и подавления свободы. Примечательно, что написано стихотворение от имени общего "мы": поэт уже не отделяет себя от других и свою трагедию сплетает с несчастьем современников.
За этим бескомпромиссным, но роковым вызовом тоталитарному режиму, первым в литературе, последовала реакция: хотя поэту временно жизнь была сохранена, но он был арестован (в ночь с 13 на 14 мая 1934 года) и сослан на 3 года в город Чердынь Пермской области, где Мандельштам в результате бесчеловечного и унизительного отношения к нему выбросился из окна больницы, сломав себе руку. Благодаря хлопотам А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Бухарина и жены поэта ссылка в уральскую глухомань, где Мандельштама довели до сумасшествия, была в следующем году заменена новым вариантом — ссылкой в Воронеж, в котором поэт находился под надзором до мая 1937 года.