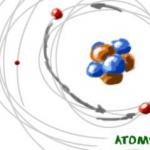Лето Господне. Эту книгу замечательного русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва называют по аналогии с другой его работой «Солнце мёртвых» — «Солнцем живых»! В книге как будто открывается душа народа: неповторимая по выразительности речь, сладость традиций, красота радостей и проникновенность скорбей.
Интересно читаются страницы, рассказывающие о том, как люди в Чистый понельник, после масленицы, чистили, мыли и убирали свои дома. Особое внимание уделялось тому, чтобы от «масленицы-обжираловки» «нигде ни крошки, ни духу не было». Даже запахи в доме старались поменять! В комнату вносили сияющий медный таз: масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич, на нем мятка, на которые поливали уксусом. Поднимающийся кислый пар - вот он «незабвенный, священный запах, запах Великого поста». С такими же красочными подробностями в романе описываются и Благовещенье, и Пасха, и Троицын день…

На Вознесенье пекли у нас лесенки из теста — «Христовы лесенки» — и ели их осторожно, перекрестясь. Кто лесенку сломает — в рай и не вознесется, грехи тяжелые. Бывало, несешь лесенку со страхом, ссунешь на край стола и кусаешь ступеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, не сломал ли я лесенку, а то поговей Петровками. Так повелось с прабабушки Устиньи, из старых книг. Горкин ей подпсалтырник сделал, с шишечками, точеный, и послушал ее наставки; потому-то и знал порядки, даром, что сроду плотник. А по субботам, с Пасхи до Покрова, пекли ватрушки. И дни забудешь, а как услышишь запах печеного творогу, так и знаешь: суббота нынче.
Пахнет горячими ватрушками, по ветерку доносит. Я сижу на досках у сада. День настояще летний. Я сижу высоко, ветки берез вьются у моего лица. Листочки до того сочные, что белая моя курточка обзеленилась, а на руках — как краска. Пахнет зеленой рощей. Я умываюсь листочками, тру лицо, и через свежую зелень их вижу я новый двор, новое лето вижу. Сад уже затенился, яблони — белые от цвета, в сочной, густой траве крупно желтеет одуванчик. Я иду по доскам к сирени. Ее клонит от тяжести кистями. Я беру их в охапку, окунаюсь в душистую прохладу и чувствую капельки росы. Завтра все обломают, на образа. Троицын день завтра.
«Лето Господне» - Праздники. Троицын день

Однако, как только переходишь от светлых, радостных страниц "Лета Господня" к письмам и воспоминаниям о жизни писателя, начинаешь поражаться исключительному обилию испытаний и страданий, перенесенных Шмелевым.
"Среднего роста, тонкий, худощавый, большие серые глаза... Эти глаза владеют всем лицом... склонны к ласковой усмешке, но чаще глубоко серьезные и грустные. Его лицо изборождено глубокими складками-впадинами от созерцания и сострадания... лицо русское, - лицо прошлых веков, пожалуй - лицо старовера, страдальца. Так и было: дед Ивана Сергеевича Шмелева, государственный крестьянин из Гуслиц, Богородского уезда, Московской губернии, - старовер, кто-то из предков был ярый начетчик, борец за веру - выступал при царевне Софье в "прях", то есть в спорах о вере. Предки матери тоже вышли из крестьянства, исконная русская кровь течет в жилах Ивана Сергеевича Шмелева".
Кутырина Ю. А. Иван Шмелев. Париж, 1960

Таким увидела его в эмиграции любимая племянница, Юлия Кутырина. На его долгую жизнь выпало столько горести и скорби, сколько вынесет не всякое сердце. И словно вопреки самой судьбе и назло всем смертям, именно он дал миру несколько десятков полных любви, света и смирения книг, каждая из которых на свой лад рассказывает о том, что Господь не оставляет человека даже в самые тяжелые времена...
Именно там, в эмиграции, и была написана книга «Лето Господне» — самое известное произведение Ивана Сергеевича Шмелева. Эта книга передает детское восприятие мальчиком Ваней Шмелёвым православных праздников, семейных радостей и скорбей. Перед нами встаёт быт обыкновенной купеческой семьи в дни праздников и горя. Семья Вани — это отец и мать, сестры и брат. А еще в семью входит приказчик Василий Васильевич и кормилица, кучер, нянька, и кухарка. Особое место в детских впечатлениях занимает отец Сергей Иванович, которому писатель посвящает самые проникновенные строки.

"Отец не окончил курса в мещанском училище. С пятнадцати лет помогал деду по подрядным делам. Покупал леса, гонял плоты и барки с лесом и щепным товаром. После смерти отца занимался подрядами: строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжеств, держал плотомойни на реке, купальни, лодки, бани, ввел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинским. Кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества - для родственников. Но, должно быть, никто из родственников не пошел: эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики... Я остался после него лет семи".
Имена Иван и Сергей у Шмелевых передавались из рода в род. Отцу писателя было всего 16 лет, когда он получил в наследство долг на 100 тысяч рублей, дом на Калужской улице в Замоскворечье (купеческая сторона Москвы) и 3 тысячи рублей наличными. Сергей Иванович Шмелёв оказался человеком редкостной натуры: у него был открытый, располагающий характер и необычайная энергия. Никакого опыта в делах, и четыре класса в Мещанском училище. Он сумел расположить к себе многочисленных работников и власть. Быстро научился ведения дел от старшего конторщика Василия Васильевича Косого, который стал правой рукой отца, и спас семью от банкротства и нищенкой жизни. Шмелевские рабочие были даже представлены царю Александру II за прекрасно выполненную работу - помосты и леса храма Христа Спасителя. Последней работой Сергея Ивановича Шмелева стала работа по изготовлению мест для публики на открытии памятника А. Пушкину. Эту работу отцу так и не пришлось увидеть. За несколько дней до открытия памятника отца трагически не стало: он разбился на лошади и так не сумел выздороветь.
Главным после отца человеком был старый плотник - Горкин Михаил Панкратович. Для мальчика Вани он «человек старинный, заповедный». «Горкин совсем особенный, тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, - чистый сегодня понедельник! - только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие - угодники бывают...» . Горкин был вегда рядом с отцом. Уже умирая, отец писателя, говорил своей жене: «Дела мои не устроены. Трудно будет тебе. Панкратыча слушай. Его и дедушка слушал, и я, всегда. Он весь на правде стоит. Дай бог каждому иметь такого товарища в жизни. Да только и они редки».
Мать, Евлампия Гавриловна Савинова. Когда дела отца стали приносить приличный доход, он женился на купеческой дочери, окончившей один из московских институтов благородных девиц. Она вела жёсткий семейный уклад, верила в сны, приметы, предчувствия, дурной глаз. Была очень строга в воспитании детей. Писатель позже вспоминал, как его пороли: веник превращался в мелкие кусочки. О матери Шмелев-писатель практически не пишет, а об отце - бесконечно.
Будучи еще гимназистом, весной 1891 (Шмелеву было 18 лет) он познакомился с Ольгой Александровной Охтерлони - ученицей петербургского Патриотического института, в котором учились девушки из военных семейств. Предки девушки по мужской линии были потомками древнего шотландского рода и принадлежали к роду Стюартов; деды были генералами. Мать Ольги была дочерью обрусевшего немца. Родители Ольги снимали квартиру в доме Шмелевых, здесь во время каникул и произошла первая встреча молодых людей, определившая их судьбу. В Ольге была серьезность, увлеченность, начитанность. У нее были также большие способности к живописи, развитый вкус. Вместе они прожили 41 год. Умерла Ольга Александровна 22 июня 1936 года. Эта утрата (после гибели единственного сына) окончательно подорвала силы и здоровье Ивана Сергеевича.
«Как пушинки в ветре…»
После октябрьского переворота Шмелёв переселился в Крым, надеясь на скорое окончание гражданской войны. Здесь Иван Сергеевич потерял сына - Сергея, поверившего, что офицеры белой армии, которые добровольно явятся с повинной, будут отпущены безо всяких дальнейших преследований.
Единственный сын Шмелёвых, Сергей, в 1915 году был призван на службу в Туркестан подпоручиком артиллерии. Вскоре сын заболел желтухой и после отравления газом с поражёнными легкими был уволен с военной службы. Больным он возвратился в Крым к родителям, и, признанный негодным к службе, работал в штабной канцелярии Врангеля.
В ночь на 4 декабря 1920 года Сергея Шмелёва арестовали. Начались бесконечные просьбы похлопотать о судьбе сына и ожидание…. Наступил март 1921 года, а Шмелевы все еще надеялись узнать участь сына. Иван Сергеевич пишет Вересаеву о своем предположении: сына переправили в Джанкой или Симферополь. Наступил апрель, в доме Шмелевых не говорилось о самом страшном, но это страшное уже и не исключалось. В одном из писем к Треневу Шмелев высказал мысль о гибели сына и признался в том, что уже потерял надежду увидеть его.
На запросы о судьбе Сергея ему сообщали, что он выслан на север. В августе 1921 года Шмелев написал во ВЦИК, к Калинину и Смидовичу, однако «ответа не последовало». Он писал А. Горькому, А. Луначарскому, В. Брюсову. За годы гражданской войны власть в Крыму переходила из рук в руки несколько раз. После разгрома армии Врангеля, большая часть ее офицеров оказалась в эмиграции. Были и те, кто поверил амнистии, обещанной новой властью. Они добровольно пришли для регистрации. Среди них был сын Ивана Шмелёва - Сергей.
В январе 1921 года он был расстрелян в Феодосии.
Иван Сергеевич долго об этом не знал, искал сына, ходил по кабинетам чиновников, посылал запросы, в письмах молил о помощи Луначарского: «Без сына, единственного, я погибну. Я не могу, не хочу жить... У меня взяли сердце. Я могу только плакать бессильно. Помогите, или я погибну. Прошу Вас, криком своим кричу - помогите вернуть сына. Он чистый, прямой, он мой единственный, не повинен ни в чём»
.

Он уже не верил в то, что Сергей жив, и хотел хотя бы найти следы сына:«Но я ничего не узнал. Знаю только, что приговор был 29 декабря, а казнь «спустя время», т.к. сын болел. Кажется месяц мой невинный мальчик ждал, больной, смерти». «Пусть скажут. Пусть снимут камень. Сын не был ни активным, ни врагом. Он был только безвинным человеком, тихим, больным, страдающим. В больнице, одинокий, он два месяца провёл в подвале-заключении. Заеденный вшами, голодный, месяц ожидавший смерти. За какое преступление? Только за то, что назывался подпоручиком!» «Я не ищу вины. Я хочу знать - за что? Я хочу знать день смерти, чтобы закрепить в сердце». «Я хочу знать, где останки моего сына, чтобы предать их земле. Это мое право. Помогите» .
Сказать просто, что он любил своего единственного сына Сергея,- значит, ничего не сказать. Смерть сына потрясла Шмелева. Страдания отца описанию не поддаются. В каждом его письме - нестерпимая боль утраты. Из письма к Вересаеву: «Часто хочу заболеть сильно, до смерти. Боюсь за жену, за её сиротство». «Горько, больно. Вот она, скверная усмешка жизни. Вся моя «охранная-то грамота» в сыне была. И будь он со мной, я бы теперь не сидел, я и жена, бедняжка, как убитые жизнью люди, в дыре у моря, в лачуге, у печурки, как богадел[ы]... Ну, да что говорить. Думаешь иногда - молчи, не объясняй людям, - не поймут, ибо не испытали твоего...».
После всего пережитого Шмелев похудел и постарел до неузнаваемости. Из прямого, всегда живого и бодрого человека превратился в согнутого, седого старика, а Ольга Александровна, узнав о расстреле сына, вмиг поседела и потеряла все зубы. Приехав в Москву, Шмелёвы стали хлопотать о выезде из страны: «Мне нужно отойти подальше от России, чтобы увидеть её всё лицо, а не ямины, не оспины, не пятна, не царапины, не гримасы на её прекрасном лице. Я верю, что лицо её всё же прекрасно. Я должен вспомнить его. Как влюблённый в отлучке вдруг вспоминает непонятно-прекрасное что-то, чего и не примечал в постоянном общении. Надо отойти» . «Где ни быть - всё одно. Могли бы и в Персию, и в Японию, и в Патагонию. Когда душа мертва, а жизнь только известное состояние тел наших, тогда всё равно. Могли бы уехать обратно хоть завтра. Мёртвому всё равно - колом или поленом» ,- это строки из писем Шмелёва к Тренёву и Бунину.
В 1922 году Шмелёву предоставили возможность поехать за границу для лечения. Осенью 1922 года семья Шмелевых выехала в Берлин. Вот что пишет своей любимой племяннице и душеприказчице Юлии Кутыриной:
«Мы в Берлине! Неведомо для чего. Бежал от своего гopя. Тщетно… Мы с Олей разбиты душой и мыкаемся бесцельно… И даже впервые видимая заграница — не трогает… Мертвой душе свобода не нужна… Итак, я, может быть, попаду в Париж. Потом увижу Гент, Остенде, Брюгге, затем Италия на один или два месяца. И — Москва! Смерть — в Москве. Может быть, в Крыму. Уеду умирать туда. Туда, да. Там у нас есть маленькая дачка. Там мы расстались с нашим бесценным, нашей радостью, нашей жизнью… — Сережей. — Так я любил его, так любил и так потерял страшно. О, если бы чудо! Чудо, чуда хочу! Кошмар это, что я в Берлине. Зачем?».
Никто так и не сказал отцу, за что расстреляли Сергея Шмелева; в служебной записке от 25 мая 1921 года председатель ВЦИК Калинин писал наркому просвещения Луначарскому: «...расстрелян, потому что в острые моменты революции под нож революции попадают часто в числе контрреволюционеров и сочувствующие ей».
Из Берлина по приглашению Бунина Шмелёвы перебираются во Францию. Несмотря на все тяготы, их эмигрантская жизнь в Париже по-прежнему напоминала уклад жизни в России со многими постами, обрядами. Православный быт, сохранявшийся в семье, произвел неизгладимое впечатление на их внучатого племянника — Ива Жантийома-Кутырина. Этот маленький мальчик стал для Шмелёвых вторым сыном. Родители Ива развелись, ребёнок остался с матерью и вскоре был крещён по православному обряду с именем Ивистион. Крестным отцом Ивушки, как его ласково называли, стал Иван Сергеевич Шмелёв. «Дядя Ваня очень серьезно относился к роли крестного отца, — пишет Жантийом-Кутырин. — Церковные праздники отмечались по всем правилам. Пост строго соблюдался. Мы ходили в церковь на улице Дарю, но особенно часто — в Сергиевское подворье».
Так маленький Ив вошёл в семью и в сердце русского писателя: «Они восприняли меня как дар Божий. Я занял в их жизни место Серёжи... О Серёже мы часто вспоминали, каждый вечер о нем молились». «Он (Шмелёв) воспитывал меня как русского ребенка, я гордился этим и говорил, что только мой мизинец является французом. Свой долг крёстного он видел в том, чтобы привить мне любовь к вечной России , э то для меня он написал «Лето Господне». И его первый рассказ начинался словами: "Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество"...»
Больной, измученный, он, наверное, не нашел бы сил жить дальше, если б не Ивушка и, конечно, жена. «Тетя Оля, — продолжает Жантийом, — была ангелом-хранителем писателя, заботилась о нем, как наседка… Она никогда не жаловалась… Ее доброта и самоотверженность были известны всем. …Тетя Оля была не только прекрасной хозяйкой, но и первой слушательницей и советчицей мужа. Он читал вслух только что написанные страницы, представляя их жене для критики. Он доверял ее вкусу и прислушивался к замечаниям».

Шмелёв, постоянно окружённый заботой, даже и не подозревал, на какие жертвы шла его жена, он понял это только после её смерти. Ольга Александровна Шмелёва скончалась внезапно, от сердечного приступа в 1936 году. В это время Шмелёвы намеревались посетить Псково-Печерский монастырь , куда эмигранты в то время ездили не только в паломничество, но и чтобы ощутить русский дух. Монастырь находился на территории Эстонии, граничащей с бывшей Родиной.
Поездка состоялась спустя полгода. Покойная и благодатная обстановка обители помогла Шмелеву пережить это новое испытание, и он с удвоенной энергией обратился к написанию "Лета Господня" и "Богомолья", которые на тот момент были еще далеки от завершения. Окончены они были только в 1948 году - за два года до смерти писателя. «Доживаем дни свои в стране роскошной, чужой. Все - чужое. Души-то родной нет, а вежливости много» - говорил он Куприну. Отсюда, из чужой и "роскошной" страны, с необыкновенной остротой и отчетливостью видится Шмелеву старая Россия, а в России - страна его детства, Москва, Замоскворечье.

«Я вижу... Небо внизу кончается, и там, глубоко под ним, под самым его краем, рассыпано пестро, смутно. Москва... Какая же она большая!.. Смутная вдалеке, в туманце. Но вот, яснее... — я вижу колоколенки, золотой куполок Храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички-домики, бурые и зеленые дощечки-крыши, зеленые пятнышки-сады, темные трубы-палочки, пылающие искры-стекла, зеленые огороды-коврики, белую церковку под ними... Я вижу всю игрушечную Москву, а над ней золотые крестики».
Последние годы своей жизни Шмелев проводит в одиночестве, потеряв жену, испытывая тяжелые моральные и физические страдания. Он решает жить "настоящим христианином" и с этой целью 24 июня 1950 года, уже тяжелобольной, отправляется в обитель Покрова Божьей Матери, основанную в Бюси-ан-От, в 140 километрах от Парижа. В тот же день сердечный приступ оборвал его жизнь. Монахиня матушка Феодосия, присутствовавшая при кончине Ивана Сергеевича, писала: "Мистика этой смерти поразила меня - человек приехал умереть у ног Царицы Небесной, под ее покровом".
В апреле 2000 года племянник Шмелева Ив Жантийом-Кутырин передал Российскому фонду культуры архив Ивана Шмелева; таким образом, на родине оказались рукописи, письма и библиотека писателя, а в мае 2001 года с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II прах Шмелева и его жены был перенесен в Россию, в некрополь Донского монастыря в Москве, где сохранилось семейное захоронение Шмелевых. Так спустя более полвека со дня своей смерти Шмелев вернулся из эмиграции.
Шмелев страстно мечтал вернуться в Россию, хотя бы посмертно. Уверенность, что он вернется на Родину, не покидала его все долгие годы, прочти 30 лет. «…Я знаю: придет срок - Россия меня примет!» - писал Шмелев. За несколько лет до кончины он составил духовное завещание, в котором отдельным пунктом выразил свою последнюю волю: «Прошу, когда это станет возможным, перевезти мой прах и прах моей жены в Москву». Писатель просил, чтобы его похоронили рядом с отцом в Донском монастыре. Господь по вере его исполнил его заветное желание.
Использованы сайты.
Повествование в романе (некоторые литераторы называют это произведение автобиографической повестью) ведется от имени мальчика Вани, которому около семи лет. Таким образом, читатель воспринимает все события глазами ребенка. Кроме Вани, главными героями произведения «Лето Господне» являются следующие персонажи.
Отец Вани – Сергей Иванович. Это рачительный и добрый хозяин, который исправно ведет дела, помогает бедным, многое делает на благо города. Внезапная болезнь и смерть отца оказывают огромное негативное воздействие на главного героя, заставляют его в столь раннем возрасте задуматься о вечных ценностях.
Михаил Панкратович Горкин раньше работал плотником, а теперь является духовным наставником мальчика. Этого человека все любят за доброту и преданность дому. Сам Сергей Иванович по-дружески называет Михаила Панкратовича Горкой, не скупится в его адрес на добрые слова, одаривает подарками.
Василий Васильевич по прозвищу Косой служит в доме старшим приказчиком. Его отличают трудолюбие, богатырское здоровье, умение быстро решать дела и преданность хозяину. Любовь к спиртному – единственный серьезный недостаток Василь-Василича, как его называют домочадцы.
Праздники
Ваня просыпается в замоскворецком доме своего отца. В это утро уже полным ходом идет генеральная уборка, которую всегда делают в Чистый Понедельник. В комнату мальчика входит Михаил Панкратович Горкин с медным тазом. Он начинает выкуривать масленицу различными благовониями. Делает это, как всегда, усердно и тщательно.
Начинается Великий Пост. Зима сдает потихоньку свои права, на улице уже сыро от капели, которая звонко сообщает о себе с московских крыш. Снег уступает место проталинам, а глыбы льда находят приют в ложбинах и погребах.
Бывший плотник Горкин с отеческой заботой опекает Ваню, помогает ему вникнуть в суть православных праздников, обрядов и русских народных традиций, ходит с ребенком в церковь. На ефимоны мальчик в первый раз стоит у аналоя и слушает певчих. Ему страшно от мысли, что все люди умрут. Ваня очень бы хотел, чтобы все умерли в один день, а затем благополучно воскресли.
Ваня с Горкиным едут на Постный рынок. Там видимо-невидимо товаров: черника, морошка, клюква, грибы, огурцы в рассоле. В медовом ряду неимоверное количество разных сортов меда. В дороге Михаил Панкратович рассказывает мальчику о Москве, ее истории, учит своего подопечного любить родные места.
Все в доме с нетерпением ждут Благовещенье. Это очень важный христианский праздник, без которого и других торжеств могло не быть. Среди ночи на Благовещенье неожиданно запел жаворонок. Его ровно год назад принес в дом птичник Солодовкин. Он тогда пообещал, что ровно через год жаворонок запоет. Так и случилось. По старинному русскому обычаю каждой весной птиц выпускают на волю.
Постепенно Великий пост подходит к концу, в доме и городе царит предпраздничное настроение. Все улочки очищены от снега, Ванин отец вместе с рабочими готовит иллюминацию в церкви. В доме натерты полы, поставлены лампадки, покрашены яйца и уложены в специальные корзинки. Они так радуют глаз.
На Пасху с утра звонят колокола, во дворе накрыты столы. За праздничный обед вместе с семьей хозяина садятся все работники. Горкин дарит Ване хрустальное золотое яичко, через которое так забавно смотреть на этот мир. Все теперь кажется золотым: люди, сад, крыша, даже звон колоколов.
Через несколько дней после Пасхи Сергею Ивановичу привозят икону Царица Небесная. Ее торжественно вносят в дом, обходят с ней все комнаты, а также двор с амбарами и сараями.
На Вознесенье принято делать особое печенье в форме ступенек – Христовых лесенок. Его все едят осторожно, поскольку есть примета, если сломаешь печенье, то в рай по лесенке не попадешь.
Троица – особенно красивый праздник, который будоражит воображение мальчика. С Михаилом Панкратовичем Ваня едет за цветами и березками. Церковь в этот день кажется цветущим садом. Так же нарядно и в доме, где возле каждой иконы установлены березки. А весь двор с самого утра устлан травой.
На Яблочный Спас в саду собирают яблоки. Затем Горкин с Ваней едут к торговцу Крапивкину, чтобы продать «урожай». Михаил Панкратович рассказывает мальчику, что через этот плод на землю пришел грех. В церкви яблоки кропят и святят, их здесь очень много, как и людей в этот праздничный день.
После шестинедельного зимнего поста наступает Великий праздник – Рождество. За несколько дней до этого славного события в городе ставят елки, бойко торгуют курами, гусями, свининой, калачиками, сбитнями, кутьей, мясными пирогами и многими другими аппетитными блюдами. А дома, как обычно, пахнет елкой.
На Рождество с черного хода в дом заходят «разные» люди. Одеты они явно не по погоде – в легких пальтишках и кофточках. Для нищих накрывают праздничный стол, а хозяин произносит тост. Сергей Иванович от души поздравляет всех гостей с Рождеством Христовым и угощает.
На Святки у Вани заболело горло, поэтому родители не берут его с собой в театр. Мальчика и других людей развлекает на кухне Михаил Панкратович. Он гадает всем по «кругу царя Соломона». Ваня замечает, что Горкин хитрит. Плотник читает изречения на свой выбор, пользуясь тем, что многие работники в доме не обучены грамоте.
На Крещение в Москве-реке освящают воду, многие купаются в проруби. Василь-Василич заключает пари с немцем: кто дольше сможет просидеть в ледяной воде. К ним присоединяется солдат. Василич побеждает обоих соперников, продержавшись в проруби почти три минуты. Правда, сделал он это с помощью хитрой уловки, намазавши тело жиром.
Наступает Масленица, и в каждом доме пекут блины. Народ радостно и весело катается с ледяных горок, говеет. В последний день Масленицы, который называется Прощеное Воскресенье, все друг перед другом извиняются, просят прощения за обиды, необдуманные поступки. Завтра вновь начнется Великий пост с печального звона и тревожной тишины.
Радости
Отец посылает Ваню и Михаила Панкратовича на ледокольню. Там нужно навести порядок, поскольку Василич ушел в запой. Однако поддельные рабочие прекрасно справились с делом и без своего руководителя, хотя тоже отмечали Денискин День рождения.
Наступил Петровский пост. Он самый легкий из всех четырех, к тому же летний. Кругом полно зелени, фруктов, ягод. Горкин рассказывает Ване, что первые апостолы, которых звали Петр и Павел, приняли мученическую смерть. Поэтому, из большого уважения к ним, народ и постится.
Затем Михаил Панкратович, Ваня, горничная Маша и белошвейка Глаша отправляются на речку полоскать белье. В Машу влюбился Денис, который живет на портомойне. Он просит Горкина посодействовать в его отношениях с девушкой.
На праздник Донской иконы намечен крестный ход, к которому тщательно и торжественно готовятся. Горкину и Василь-Василичу предстоит нести хоругви, поэтому они очищают свои тела в бане.
Во время шествия Михаил Панкратович несет золотую хоругвь, которая символизирует Светлое Воскресение Христово. Василь-Василич идет с хоругвью, которая похожа на звезду. Она является символом Рождества Христова.
В ожидании Покрова Василич замечает, что это очень важный день. Землю снежком покроет. В доме полным ходом идет засолка огурцов, капусты, яблок. Ведь зима уже не за горами. В этот день появляется на свет Ванина сестра – Ксюша, а Маша с Денисом сватаются.
Еще одно важное событие – именины Сергея Ивановича. Хозяин принимает множество поздравлений, ему везут пироги со всех уголков Москвы, а рабочие изготавливают в честь именинника огромный крендель, на котором написано: «Хозяину благому». Даже сам архиерей прибывает в дом, чтобы поздравить Сергея Ивановича.
После Покрова наемные рабочие разъезжаются по домам, поскольку работы в доме практически не остается.
На Михайлов день празднует именины Михаил Панкратович. Ваня очень огорчен, что не успел приготовить подарок своему любимому наставнику. Мальчика выручает отец, который в кошелек из сафьяна кладет деньги от себя и от сына. Кроме того, Сергей Иванович щедро одаривает Горкина дорогими вещами, за доброту и преданность.
На Филипповки навалило много снега, и ударил мороз. Реки сковало льдом, а дороги затвердели и стали удобными для езды.
Приближается Рождество. Характерная примета этого праздника – на Конную площадь везут живность со всех уголков России. Ваня с Горкиным делают закупки к празднику, а в доме чистят снегом диваны, кресла, ковры, ставят лампадки.
В Сочельник в доме царит идеальная чистота, но сытно обедать пока не полагается. Можно лишь побаловаться чайком с маковыми подковками. После службы в церкви решили зайти к Горкину и там уже разговелись.
В Зоологическом саду отец Вани задумал построить «ледяной дом», для чего начал свозить туда елки, фонарики и много других вещей. Как строить «ледяной дом» толком никто не знает, поэтому сооружают его по своему разумению. Но дом вышел на славу, словно из красивой сказки. Вечером его стены отсвечивают разными цветами. Москвичи благодарят Сергея Ивановича за это чудо.
В Крестопоклонную неделю в доме выпекают печенье в форме креста. Малинки в нем напоминают гвоздики. Так повелось в роду Сергея Ивановича еще от прабабушки Устиньи. Приготовлением печенья занимается Марьюшка, которая делает работу с молитвой на устах.
В это время происходит много дурных предзнаменований. Сергей Иванович и Горкин видят дурные сны, а еще начал цвести змеиный цветок, который способен на такое один раз в двадцать-тридцать лет. Матушка считает это очень плохой приметой. Вскоре умирает тетка отца Пелагея Ивановна.
Во время поста Ваня впервые говеет, вместо сладкого ест одни сушки. Михаил Панкратович ведет мальчика в баню, а затем в церковь на покаяние. Ваня со слезами на глазах рассказывает отцу Виктору о своих детских грехах. После покаяния и батюшкиного наставления на душе у ребенка становится очень легко.
В Вербное воскресенье все в доме ждут, когда же, наконец, старый угольщик привезет вербу. Особенно сокрушается по этому поводу Горкин, который не представляет, как можно встречать праздник без вербы в доме.
На поиски угольщика отправляют одного рабочего. Выясняется, что в санях сломалась оглобля, и старик оказался в овраге. Угольщика освобождают, а красавицу-вербу благополучно доставляют в дом.
Михаил Панкратович говорит, что в этот день Бог воскресил Лазаря. Значит, всем будет вечная жизнь, надо радоваться.
На Пасху народ ликует, звонят колокола. Дворника Гришку, который пропустил службу, обливают холодной водой. Однако он не обижается, только усмехается в ответ. В этом году Пасха поздняя, поэтому уже успели прилететь из теплых стран первые ласточки.
Снова начинаются плохие предзнаменования. Бушуй воет всю ночь, а реполов вдруг начинает петь.
Михаил Панкратович объясняет Ване, почему неделя, когда вспоминают усопших, называется Радуница. Просто в это время все люди отправляются на могилки к своим родным и близким. Они говорят усопшим: «Радуйтесь, скоро все воскреснем».
По пути с кладбища Михаил Панкратович и Ваня заходят в трактир, чтобы выпить чаю. Здесь они слышат страшную весть о том, что Сергея Ивановича убила лошадь. Однако дома оказывается, что Ванин отец жив, только находится в очень тяжелом состоянии. Лежит с разбитой головой и бредит.
Скорби
Один за другим в дом приходят посетители. Все молятся за здоровье хозяина, желают ему скорейшего выздоровления. Через какое-то время Сергею Ивановичу становится лучше, однако работать он пока не может. Управлением хозяйства занимается Василь-Василич.
По словам отца, произошло все следующим образом. Сергей Иванович ехал на молодой, еще необъезженной лошади и наслаждался красотами природы. Когда же он хлестнул кобылицу нагайкой, та резко метнулась и понеслась что есть мочи, а затем скинула хозяина на землю. Сергей Иванович неудачно упал и сильно ударился головой.
Когда хозяин немного оправился от болезни, то поехал в бани, чтобы окатить там себя живой водой. После этого он стал чувствовать себя значительно лучше, чем очень обрадовал родных и близких.
Отец берет Ваню в поездку по Москве. С ними путешествует и Михаил Панкратович. На Воробьевке Сергей Иванович долго любуется матушкой-Москвой, ее величием и красотой.
Отец постепенно возвращается к прежним делам, начинает проверять стройки. Но в одну из таких поездок ему становится плохо, хозяин едва не падает с лесов. Василич привозит Сергея Ивановича домой, и всем становится ясно, что болезнь вернулась.
На Троицу Сергей Иванович нарядно одевается, выходит к столу, чтобы со всеми пообедать. Но радости в доме не чувствуется, родные предполагают, что болезнь уже не отпустит хозяина.
Так и происходит. В один из дней Сергею Ивановичу становится совсем худо, он даже не выходит из своей комнаты. Врачи не дают никакой надежды на выздоровление. Говорят, что нужна операция, но медицина еще не достигла технических возможностей для столь сложной процедуры. После вскрытии головы, умирают девять из десяти пациентов.
Чудотворные иконы и другие церковные атрибуты тоже не помогают, Сергею Ивановичу не становится лучше. Остается лишь уповать на волю Божию.
На Спас-Преображение все приносят в дом освященные яблоки. Михаил Панкратович с грустью вспоминает, как раньше любил меняться яблочками с «папашенькой». Слезы катятся градом по его седой бородке.
После Успенья в доме, как обычно, солят огурцы. Но радости уже нет, песен никто не поет. Сергею Ивановичу становится совсем плохо, он ничего не ест. В день Ивана Богослова матушка решает, что пора отвести детей к отцу на благословение. Однако Сергей Иванович говорит, что уже ничего не видит. Матушка подводит каждого ребенка к отцу и помогает благословить детей.
На следующий день в доме проводят обряд Соборования. Ване очень жалко отца, он все время плачет. Михаил Панкратович всеми средствами старается утешить ребенка, говорит, что все мы еще свидимся, если Богу будет угодно.
Наступает последний День рождения Сергея Ивановича. Отовсюду в дом несут подарки, поздравления. Однако в этот раз всеобщая любовь не доставляет радости имениннику и его родне. Горкин объясняет Ване, что все хотят напоследок высказать уважение хозяину дома, ведь он еще жив.
Мальчик цепляется за каждую маленькую надежду на выздоровление отца. Когда тот выпивает немного миндального молока, Ваня думает, что, может быть, еще все образуется. С этой мыслью он засыпает и видит красивый сон.
Проснувшись, мальчик понимает, что произошло что-то ужасное. В доме завешаны зеркала. Горкин подводит Ваню к гробу, чтобы тот простился с отцом. Ване становится плохо. Когда мальчик приходит в себя, Михаил Панкратович сообщает, что Ваня проспал целые сутки.
На похороны отца мальчик идти не может. Он очень ослаб, ноги не держат. Ваню заворачивают в одеяло и подносят к окну, чтобы он в последний раз посмотрел на отца. Мальчик видит огромное количество людей, которые пришли проводить в последний путь Сергея Ивановича. Ваня крестится и прощается с отцом.
Шмелев Иван Лето господне. Именины
Осень – самая у нас именинная пора: на Ивана Богослова – мои, на мучеников Сергия и Вакха, 7 октября, — отца; через два дня мученики Евлампии – матушка именинница, на Михайлов день Горкин пирует именины, а зиму Василь Василич зачинает – Васильев день, — и всякие пойдут неважные.
После Покрова самая осень наступает: дожди студеные, гололед. На дворе грязь чуть не по колено, и ничего с ней нельзя поделать, спокон веку все мелется. Пробовали свозить, а ее все не убывает: за день сколько подвод пройдет, каждая плохо-плохо, а с полпудика натащит, да извозчики на сапогах наносят, ничего с ней нельзя поделать. Отец поглядит – и махнет рукой. И Горкин резон приводит: «Осень без грязи не бывает… зато душе веселей, как снежком покроет». А замостить – грохоту не оберешься, и двор-то не тот уж будет, и с лужей не сообразишься, камня она не принимает, в себя сосет. » Дедушка покойный рассердился как-то на грязь – кожаную калошу увязил, насилу ее нащупали, — никому не сказал, пригнал камню, и мостовщики пришли, — только, Господи благослови, начали выгребать, а прабабушка Устинья от обедни как раз и приезжает: увидала камень да мужиков с лопатами – с ломами – «да что вы», — говорит, — двор-то уродуете, земельку калечите… побойтесь Бога!» — и прогнала. А дедушка маменьку уважал и покорился. И в самый-то день Ангела ее, как раз после Покрова, корежить стали. А двор наш больше ста лет стоял, еще до француза, и крапива, и лопушка к заборам, и желтики веселили глаз, а тут – под камень!
За неделю до мучеников Сергия-Вакха матушка велит отобрать десяток гусей, которые на Москва-реке пасутся, сторожит их старик гусиный, на иждивении. Раньше, еще когда жулики не водились, гуси гуляли без надзора, да случилось – пропали и пропали, за сотню штук. Пошли проведать по осени – ни крыла. Рыбак сказывал: «Может, дикие пролетали, ночное дело… ваши и взгомонились с ними – прощай, Москва!» С той поры крылья им стали подрезать.
На именины уж всегда к обеду гусь с яблоками, с красной шинкованной капустой и соленьем, так уж исстари повелось. Именины парадные, кондитер Фирсанов готовит ужин, гусь ему что-то неприятен: советует индеек, обложить рябчиками-гарниром, и соус из тертых рябчиков, всегда так у графа Шереметьева. Жарят гусей и на людской стол: пришлого всякого народу будет. И еще – самое-то главное! – за ужином будет «удивление», у Абрикосова отец закажет, гостей дивить. К этому все привыкли, знают, что будет «удивление», а какое – не угадать. Отца называют фантазером: уж всегда что-нибудь надумает.

Сидим в мастерской, надумываем, чего поднести хозяину. По случаю именин Василь Василич уж воротился из деревни. Покров справил. Сидит с нами. Тут и другой Василь Василич, скорняк, который все священные книги прочитал, и у него хорошие мысли в голове, и Домна Панферовна – из бань прислали подумать, обстоятельная она, умный совет подаст. Горкин и Андрейку кликнул, который по художеству умеет, святого голубка-то на сень приделал из лучиков, когда Царицу Небесную принимали, святили на лето двор. Ну, и меня позвал, только велел таиться, ни слова никому, папашенька чтобы не узнал до времени. Скорняк икону советовал, а икону уж подносили. Домна Панферовна про Четьи- Минеи помянула, а Четьи-Минеи от прабабушки остались. Василь Василич присоветовал такую флягу-бутылочку из серебра, — часто, мол, хозяин по делам верхом отлучается в леса-рощи – для дорожки-то хорошо. Горкин на смех его: «Кто что, а ты все свое… «на дорожку!» Да и отец и в рот не берет по этой части. Домна Панферовна думала-думала – да и бухни: «Просфору серебряную, у Хлебникова видала, архиерею заказана». Архиерею – другое дело. Горкин лоб потирал, а не мог ничего придумать. И я не мог. Придумал – золотое бы портмоне, а сказать побоялся, стыдно. Андрейка тут всех и подивил: а я, — говорит, знаю, чего надо… Вся улица подивилась, как понесем, все хозяева позавидуют, какая слава!
Надо, говорит, громадный крендель заказать, чтобы не видано никогда такого, и понесем все на головах, на щите парадном. Угольком на белой стенке и выписал огромный крендель, и с миндалями. Все и возвеселились, как хорошо придумал-то. Василь Василич аршинчиком прикинул: под два пуда, пожалуй, говорит будет. А он горячий, весь так и возгорелся: сам поедет к Филиппову, на Пятницкую, старик-то Филиппов всегда ходил в наши бани уважительно его парят банщики, не откажет, для славы сделает… — хоть и печь, может, разобрать придется, да еще не выпекали. Горкин так и решил, чтобы крендель, будто хлеб-соль подносим. Чтобы ни словечка никому: вот папашеньке по душе-то будет, диковинки он любит, и гости подивятся, какое уважение к ему, и слава такая на виду, всем в пример.
Так и порешили – крендель. Только Домна Панферовна что-то недовольна стала, не по ее все вышло. Ну, она все-таки женщина почтенная, богомольная, Горкин ее совета попросил, может, придумает чего для кренделя. Обошлась она, придумала: сахаром полить – написать на кренделе: «На день Ангела – хозяину благому», и еще имя-отчество и фамилию прописать. А это скорняк придумал – «благому» -то, священным словом украсить крендель, для торжества: священное торжество, ангельское. И все веселые стали, как хорошо придумали. Никогда не видано – по улице понесут, в дар! Все лавочники и хозяева поглядят, как у людей-то хороших уважают. И еще обдумали – на чем нести: сделать такой щит белый, липовый, с резьбой, будто карнизик кругом его, а Горкин сам выложит весь щит филенкой тонкой, вощеной, под тонкий самый паркет, — самое тонкое мастерство, два дня работы ему будет. А нести тот щит, на непокрытых головах, шестерым молодцам из бань, все ровно, а в переднюю пару Василь Василича поставить с правой руки, а за старшего, на перед, Горкин заступит, как голова всего дела, а росточку он небольшого, так ему под щит тот подпорочку держалку, на мысок щита чтобы укрепить, — поддерживать будет за подставочку. И все в новых поддевках чтобы, а бабы-банщицы ленты чтобы к щиту подвесили, это уж женский глаз тут необходим, — Домна Панферовна присоветовала, потому что тут радостное дело, для глаза и приятно.
Василь Василич тут же и покатил к Филиппову, сговорится. А насчет печника, чтобы сомлевался Филиппов, пришлем своего, первейшего, и все расходы, в случае спечь разбирать придется, наши. Понятно, не откажет, в наши бани, в «тридцатку», всегда ездит старик Филиппов, парят его приятно и с уважением, — все, мол, кланяются вашей милости, помогите такому делу. А слава-то ему какая! Чьей такой крендель? – скажут. Известно, чей… филипповский-знаменитый. По всей Москве банные гости разнесут.

Скоро воротится, веселый, руки потирает, — готовое дело. Старик, говорит, за выдумку похвалил, тут же и занялся: главного сладкого выпекалу вызвал, по кренделям, печь смотрели – как раз пролезет. Но только дубовой стружки велел доставить и воз лучины березовой, сухой-рассухой, как порох, для подрумянки чтобы, как пропекут. Дело это, кто понимает, трудное: государю раз крендель выпекали, чуть поменьше только, — «поставщика-то Двора Его Величества» охватил Филиппов! – Так три раза все подпортил пока не вышел. Даже пошутил старик: «Надо, чтобы был кре-ндель, а не сбре-ндель!» А сладкий выпекала такой у него, что и по всему свету не найти. Только вот запивает, да за ним теперь приглядят. А уж после, как докажет себя, Василь Василич у благословит и сам с ним ублаготворится – Горкин так посмеялся. И Василь Василич крепкий зарок дал: до кренделя – рот ни капли…
… в мастерской только и разговору, что про крендель. Василь Василич от Филиппова не выходит, мастеров потчует, чтобы расстарались. Уж присылали мальчишку с Пятницкой при записке – просит, мол, хозяин придержать вашего приказчика, всех мастеров смутил, товар портят, а главного выпекалу сладкого по трактирам замотал… Горкин свои меры принял, а Василь Василич одно и одно: «За кренделем наблюдаю!.. и такой буде кре-н-дель – всем кренделям крендель!»
А у самого косой глаз страшней страшного, вихры торчками, а язык совсем закренделился, слова портит. Прибежит, ужарит в грудь кулаком – и пойдет:
— Михаил Панкратыч… слава тебе, премудрому! Додержусь, покелича кренделя не справим, в хозяйские руки не сдадим… ни маковой росинки, ни-ни!..
— Кровь такая, горячая, — всегда душу свою готов на хорошее дело положить. Ну, чисто ребенок малый… — Горкин говорит, — только слабость за ним такая.
Накануне именин пришел хорошими ногами, и косой глаз спокойный. Покрестился на каморочку, где у Горкина лампадки светили, и говорит шепотком, как на духу:
— Зачинают, Панкратыч… Господи, благослови. Взогнали те-сто!.. – пузырится, квашня больше ушата, только бы без закальцу вышло!..
И опять покрестился.
А уж и поздравители стали притекать, все беднота-простота, какие у нас работали, а теперь «месячное» им идет. Это отец им дает, только ни одна душа не знает, мы только с Горкиным. Это Христос так велел, чтобы правая рука не знала, чего дает. Человек двадцать уж набралось, слушают Клавнюшу Квасникова, моего четыре… четвероюродного братца, который божественным делом занимается: всех-то благочинных знает-навещает, протодиаконов и даже архиереев, и все хоругви, а уж о мощах и говорить нечего. Рассказывает, что каждый день у него праздник, на каждый день празднуют где-нибудь в приходе, и все именины знает. Его у нас так «именинником» и кличут, и еще «крестным ходом» дядя Егор прозвал. Как птица небесная, и везде ему корм хороший, на все именины попадает. У митрополита Иоанникия протиснулся на кухню, повару просфору поднес, вчера, на именины, — Святителей вчера праздновали в Кремле – Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, а повар как раз – Филипп. Так ему наложили в сумку осетрины заливной, и миндального киселика в коробке, и пирогов всяких, и лещика жареного с грибами, с кашкой, с налимьим плесом. А сам-то он не вкушает, а все по бедным-убогим носит, и так ежедень. И книжечку-тетрадку показал – все у него там приходы вписаны, кого именины будут. А тут сидела Полугариха из бань, которая в Иерусалиме была.

И говорит:
— Ты и худой такой с того, что по именинам ходишь, и нос, как у дятла, во все горшки заглядываешь на кухнях!
А Клавнюша смиренный, только и сказал:
— Нос у меня такой, что я прост, все меня за нос водят.
Знает, всем покоряется. И у него деньги выманивают, что благочинные дают ему. И что же еще сказал!..
— Остерегайтесь барина, который в красном картузе, к вам заходит… просфорок от него не принимайте!
И что же оказывается!.. – Горкин даже перепугался и стал крестится. А это про барина Энтальцева. Зашел барин поздравить отца Копьева… именинник он был, благочинный нашего «сорока», от Спаса-в-Наливках… и поднес ему просфору за гривенник, — от Трифона-мученика, сказал. Клавнюша-то не сказал отцу благочинному, а он барина застал у заборчика в переулке: ножичком перочинным… просфорку… сам вынима-ет! … «Не сказывай никому, — барин-то попросил, — к обедне я опоздал, просфору только у просфирни захватил, а без вынутое-то неловко как-то… ну, я за него сам и помолился, и частицу вынул молитвой, это все равно, только бы вера была». А благочинный и не заметил, чисто очень вынута частица, и дырочек наколол в головке, будто «богородичная» вышла.
И стали мы с Клавнюшей считать, сколько завтра нам кондитерских пирогов и куличей нанесут. В прошедшем гаду было шестьдесят семь пирогов и двадцать три кулича – вписано у него в тетрадку. Ему тогда четыре пирога дали – бедным кусками раздали. Завтра с утра понесут, от родных, знакомых, подрядчиков, поставщиков, арендаторов, прихожан – отец староста церковный у Казанской, — из уважения ему и посылают. А всяких просвирок и не сосчитать. В передней плотники поставили полки – пироги ставить, для показа. И чуланы очистили для сливочных и шоколадных пирогов-тортов, самых дорогих, от Эйнема, Сиу и Абрикосова, — чтобы похолодней держать. Всем будем раздавать, а то некуда и девать. Ну, миндальные-марципанные побережем, постные они, не прокисают. Антипушка целый пирог получит. А Горкин больше куличики уважает, ему отец всегда самый хороший кулич дает, весь миндалем засыпанный, — в сухари.

Приехал Фирсанов, с поварами и посудой, поварской дух привез. Гараньку из Митриева трактира вызвал – делать редкостный соус из тертых рябчиков, как у графа Шереметьева. И дерзкий он, и с поварами дерется, и рябиновки две бутылки требует, да другого такого не найти. Говорят, забрал припасы с рябиновкой, на погребице орудует, чтобы секрет его не подглядели. На кухне дым коромыслом, навезли повара всякого духовитого припасу, невиданного осетра на заливное – осетровый хвостище с полка по мостовой трепался, — всю ночь будут орудовать стучать ножами, Марьюшку выжили на кухню. Она и свои иконки унесла, а то халдеи эти Святых табачищем своим задушат, после них святить надо.
Пора спать идти, да сейчас Василь Василич от Филиппова прибежит – что-то про крендель скажет? Уж и бежит, веселый, руками машет.
— Выпекли знатно, Михаил Панкратыч!.. До утра остывать будет. При мне из печи вынули, сам Филиппов остерегал-следил. Ну и крендель… Ну, дышит, чисто живой!.. А пекли-то… на соломке его пекли да заборчиком обставляли, чтобы не расплывался. Следили за соломкой строго… время не упустить бы, как в печь становить… не горит соломка – становь. Три часа пекли, выпекала дрожью дрожал, и не подходи лучше, убьет! Как вынать, всунул он в него, в крендель-то во какую спицу… — ни крошинки-мазинки на спице нет, в самый то раз. Ну уж и красота румяная!.. «Никогда, — говорит, — так не задавался, это уж ваше счастье». Велел завтра поутру забирать, раньше не выпустит.
Отец и не ожидает, какое ему торжество-празднование завтра будет. Горкин щит две ночи мастерил, украдкой. Андрейка тонкую резьбу вывел, как кружево. Увезли щит-поднос в бани, когда стемнело. Завтра, равным-рано поутру, после ранней обедни, все выборные пойдут к Филиппову. Погода бы только задалась, кренделя не попортила… — ну, в случае дождя прикроем. Понесут на головах, по Пятницкой, по Ордынке, по Житной, а на Калужском рынке завернут к Казанской, батюшка выйдет – благословит молитвой и покропит. Все лавочники выбегут – чего такое несут, кому? А вот, скажут, — «хозяину благому», на именины крендель! И позаимствуют. А вот заслужи, скажут, как наш хозяин, и тебе, может поднесут… это от души дар такой придуман, никого силой не заставишь на такое.
Только бы дождя не было! А то сахарные слова размокнут, и не выйдет «хозяину благому», а размазня. Горкин погоду знает, говорит – может, и дождичка надует, с заката ветер. На такой случай, говорит, Андрейка на липовой досточки буковки вырезал, подвел замазкой и сусальным золотцем проложил, — «съедят крендель, а досточка те и сохранится».
Три ящика горшановского пива-меду для народа привезли, а для гостей много толстых бутылок фруктовой воды, в соломенных колпачках, «ланинской» — знаменитой, моей любимой, и Горкин любит, особенно черносмородиновую и грушевую. А для протодьякона Примагентова бутылочки-коротышки «редлиховской» — содовой и зельтерской, освежаться. Будет и за обедом, и за парадным ужином многолетие возглашать, горло-то нужно чистое. Очень боятся, как бы не перепутал: у кого-то, сказывали, забыли ему «редлиховской», для прочистки, так у него и свернулось с многолетия на… — «во блаженном успении…» — такая-то неприятность была. Слабость у него еще: в «трынку» любит хлестаться с богатыми гостями, на большие тысячи рискует даже, — ему и готовят освежение. Завтра такое будет… — и певчие пропоют-прославят, и пожилые музыканты на трубах придут трубить, только бы шубы не пропали. А то в прошедшем году пришли какие-то потрубить поздравить, да две енотовых шубы и «поздравили». И еще будет – «удивление», под конец ужина, Горкин мне пошептал. Все гости подивятся: «Сладкий обман для всех». Что за сладкий обман?..
— А еще бу-дет… вот уж бу-дет!.. Такое, голубок, будет, будто весна пришла.
— А это почему… будто весна пришла?
— А вот потерпи… узнаешь завтра.
Так и не сказал. Но что же это такое – «будто весна пришла»? да что же это такое почему Андрейка в зале, где всегда накрывают парадный ужин, зимнюю раму выставил, а совсем недавно зимние рамы вставили и замазали наглухо замазкой? Спрашиваю его, а он: «Михаил Панкратыч так приказали, для воздуху». Ну, я правду сказать, подумал, что это для разных барынь, которые табачного курева не любят, у них голова разбаливается, и тошно им. Дядя Егор крученики курит самые злющие, «сапшалу» какую-то, а Кашин, крестный, — вонючие сигарки, как Фирсанов. А когда они в «трынку» продуются, так хоть святых выноси, чай зеленый. А они сердятся на барынь, кричат: «Не от дыма это, а облопаются на именинах, будто сроду не видали пирогов-индюшек, с того и тошнит их, а то и «от причины»!» Скандал прямо, барыни на них только веерками машут.

После только я понял, почему это выставили – «для воздуха». Такое было… — на всю Москву было разговору! Самое лучшее это было, если кренделя не считать и еще – «удивления», такое было… никто и не ожидал, что будет такая негаданность-нежданность, до слез веселых. Помню, я так и замер, от светлого, радостного во мне – такого… будто весна пришла! И такая тогда тишина настала, так все и затаилось, будто в церкви… – муху бы слышно было, как пролетит. Да мухи-то уж все кончились, осень глухая стала.
,Свое произведение автор посвятил И. А. Ильину и его супруге, которые, как и он, оказались в эмиграции. Дружба двух великих русских мыслителей началась с переписки. Объединяла их любовь к своей родине. Во всех невзгодах и лишениях их согревали мысли о будущей, возрожденной России. И своей главной задачей они считали - воспитать русских детей эмигрантов в духе русской культуры.
Для кого «Лето Господне»?
Роман не только для детей. Краткое содержание «Лета Господня» начинается с главы «Праздники», о которых Шмелев хотел напомнить всем, оторванным от земли русской, от своих корней. Он писал, что их пребывание за границей - это великое испытание. Так, от тоски по родной стране и ностальгии, от рассказов своему крестнику до поддержки соотечественников шел Иван Сергеевич к «Лету Господню».
Вереница праздничных дней, порядок богослужения, убранство церкви, благочестивые обычаи, религиозный смысл каждого праздника и бытовые подробности - обо всем рассказал Шмелев в «Лете Господне». Читая краткое содержание, можно заметить, что вторая часть «Радости» и третья «Скорби» имеют более личный, частный характер. Собирая отдельные рассказы в книгу, Шмелев не включил в нее главы, имеющие политическую окраску. Как известно, сюжет в них автобиографический.
Обрабатывая газетные варианты рассказов, Шмелев убирает «знания» взрослого рассказчика, а оставляет только предчувствия и предсказания, случайные обмолвки и приметы. «Скорби» в газетах почти не публиковались. Вероятно, автор не хотел предавать огласке самое личное и горькое - борьбу с болезнью, молитвы и надежды на исцеление, приготовление к смерти и кончину отца. Неужели вся книга пронизана скорбью и печалью?
О чем хотел сказать Шмелев в «Лете Господне»?
Повествование ведется от лица главного героя Вани. Ему нет еще и семи лет. Ваня чувствует ласковый мир и восхищается им: в церкви читается «радостная молитвочка», все думают о «яблочках», утро «в холодочке». Мальчик живет с ощущением восторга. Болезнь и кончина отца заставляют его скорбеть. Справиться с горем и обрести новый смысл в жизни ему помогают поучения старика Горкина и религиозное воспитание.

Праздники. Великий пост
Ваня проснулся от резкого, холодного света. В комнате нет розовых занавесок. Скучно в комнате, но в душе «копошится что-то радостное» - теперь начнется новое. Горкин рассказывал, что «душу надо готовить» к Светлому дню. В комнату входит Михаил Панкратович с сияющим медным тазом, от которого поднимается кислый пар, - масленицу выкуривать. Священный запах. Так пахнет Великий пост. Как видно из краткого содержания «Лета Господня», Горкин всегда рядом с Ваней. Он помогает мальчику понять смысл православных обрядов.
На Ефимоны в храме пустынно и тихо. Ване тревожно. Это его первое стояние. Горкин объяснил мальчику, что такое «их-фимоны», поставил Ваню к аналою и велел слушать. Певчие выводят: «Конец приближается». И мальчику становится страшно, что все умрут. Он думает, как хорошо было бы умереть всем в один день и разом воскреснуть. Служба закончилась. Они идут домой.
Первый весенний вечер, звонко стучит капель, в небе кружат грачи. «Теперь пошла весна», - говорит Михаил Панкратович. Даже в кратком содержании «Лета Господня» нельзя не отметить, что Горкин - знаток народных традиций и примет, он щедро делится ими с Ваней. Засыпая, мальчик слушает, как за окном шуршит весеннее кап-кап.
Утром мальчик открыл глаза, и его ослепило светом. С его кроватки сняли полог. В доме большая «великопостная» стирка. Горкин с Ваней едут на постный рынок. Дорога зимняя, но еще крепкая. Едут возле Кремля. Михаил Панкратович рассказывает о Москве.
Благовещенье
Завтра великий праздник - Благовещенье. Без него и праздников христианских не было бы. Завтра посту конец. В отцовском кабинете запел жаворонок. Год молчал и запел. Под самый праздник запел, отмечают Горкин с Василичем, - к благополучию. Торговец Солодовкин приносит птиц, и по обычаю их выпускают в небо все вместе - и хозяева, и работники. Славный обычай. Маленькая, но запоминающаяся деталь для читательского дневника. «Лето Господне», краткое содержание которого описано в этой статье, рассказывает о многих интересных традициях той России, которую любил Шмелев.
Пост подходит к концу. Готовятся к великому празднику. Мостовую чистят от снега и льда - «до камушка», магазины и булочные празднично украшают. Отец с рабочими готовят иллюминацию в приходской церкви и в Кремле. В церкви выносят плащаницу. Ване стало грустно - умер Спаситель. Но тут же бьется в сердце радость - завтра воскреснет. В доме полы натерли, поставили пунцовые лампадки, в корзинах крашеные яйца. Великая Суббота. Горкин с Ваней идут в церковь. Сейчас Крестный ход. В небо с шипеньем взмывают ракеты и рассыпаются на разноцветные яблочки. Звонят колокола - Пасха красная.
Во дворе столы накрыты. За праздничный обед садятся вместе с работниками - так повелось еще от деда. Все христосуются. Ваня смотрит на двор через хрустальное, золотое яичко, что подарил ему утром Горкин. Люди золотые, сараи золотые, сад и крыша - все золотое.
С Фоминой недели приходят новые рабочие. В дом должны принести Иверскую икону Богородицы. Двор убирают - накрывают досками лужу и грязный сруб помойной ямы, рогожами накрывают навозные кучи, прибирают все ящички и бочки по углам двора. Привезли икону Царица Небесная. Все молятся, Заступницу торжественно вносят в дом, обходят с ней рабочие спальни, амбары, сараи с живностью, весь двор.

Троица
Пекли на Вознесенье лесенки из теста. Ели осторожно, чтобы не сломать. Кто «Христову лесенку» сломает - в рай не вознесется. Ваня едет с Горкиным на Воробьевку за березками, за цветами - в Черемушки с отцом. Сегодня Троица. В доме во всех углах и возле икон березки. Двор устлан травой. Нарядно одетые, с букетами цветов, все идут на службу. Церковь вся в цветах, как будто священный сад, «благоприятное лето Господне».
«Яблочный спас» - краткое содержание этой главы начинается со сбора яблок в саду. Будут святить и кропить яблоки. «Грех пришел через них. Адама с Евой змей яблоком обманул», - рассказывает Горкин. В церкви полно народу. На амвоне корзины с яблоками. А над головами все текут и текут узелочки с яблоками да просвирками.
Рождество и «обед для разных»
Зима морозная, снежная. В дом приходят люди. Они всегда приходили на Рождество. Трескучие морозы, а они в пальтишках да кофточках. Проходят с черного хода. Прыгают у печки, дуют в сизые кулаки. На второй день Рождества в доме устраивают обед «для разных». Стол застилают праздничной скатертью, посуду ставят парадную. Входит Сергей Иванович, поздравляет всех с Рождеством Христовым и приглашает к столу.
Сегодня Святки. У Вани болит горло, и отец с матерью уезжают в театр без него. Остальные собираются за столом. Горкин гадает по кругу царя Соломона - кому что выпадет. Ваня заметил лукавство Горкина, но молчит, так как Михаил Панкратович читает для каждого самое подходящее и поучительное.
В Москве-реке освящают воду и многие купаются в проруби. Василич устроил соревнование с немцем, кто дольше просидит в проруби. С ними вызвался состязаться солдат. Они хитрят: немец натирается свиным жиром, Василич - гусиным, солдат - без всяких хитростей. Побеждает Василич.
На Масленицу все пекут блины. В дом должен приехать архиерей, и для приготовления праздничного обеда приглашают повара. В субботу идут кататься с гор, а перед началом Великого поста, в воскресенье, надо просить друг у друга прощения.

Радости. Именины
Нужно заказчику свезти лед, а Василич пьет. Ваня с Горкиным едут на ледокольню «навести порядок». Но рабочие все сделали на совесть.
Вот и «Апостольский» пост - так еще называют Петровский. Он летний, легкий. «Самые первые апостолы Петр и Павел мученическую смерть приняли. Потому и постимся. Из уважения», - рассказывает мальчику Михаил Панкратович. Вскоре сообщает, чтобы он собирался на дачу. Ваня знает, что едут они на реку - белье полоскать.
Во дворе собирают стружку - готовятся к Крестному ходу. Народу много будет. Вдруг какой озорник спичку кинет? Вот и убирают, да бочки с водой ставят. Дорогу посыпают песком и травой, чтобы неслышно, будто по воздуху.
Василич говорил, что Покров - важный день. Дела все «станут», а землю снежком покроет. На Ивана Постного в доме строгий пост. В доме людно - парят кадочки и кипятят воду для залива. Будут огурцы солить, антоновку мочить. Свободные от работы плотники тоже здесь - капусту рубить будут. Вот и Покров пришел. «Зима теперь не страшна», - думает Ваня. - Все у нас припасено».
Осень - самая именинная пора в доме. По случаю именин Сергея Ивановича все собираются в доме и думают, «чего поднести хозяину». Решили заказать огромный крендель, «невиданно никогда такого». Знатный крендель испекли, а на нем сахарными буквами: «Хозяину благому». Пока несли крендель, Василич устроил колокольный звон. Именины удались на славу.

«Ледяной дом» на Рождество
Михайлов день. В этот день - именины Горкина. Ванин отец преподносит ему дорогие подарки. Горкин всплескивает руками, говорит, а голос дрожит: «Да за что же мне это?» Отвечают: «Хороший ты, Панкратыч. Вот за что».
Зима, как «взялась» с Михайлова дня, так и не отпустила. Снегу на Филипповки навалило с аршин. Реки встали, дорога сделалась хорошая, ровная. В Зоологический сад, где отец взялся «ледяной дом» ставить, со двора везут елки, флаги, разноцветные фонарики. Ваню туда не берут. Дали ему в утешение задание - билеты для катания с гор «нашлепать».
Как увидишь, обозы потянулись на Конную площадь - скоро Рождество. «Живность везут со всей России» - гусей, поросят, свиней мороженых. Ваня с Горкиным тоже поехали закупаться к празднику. В доме чистят снегом ковры, кресла и диваны, начищают до блеска ризы на образах, ставят рождественские лампадки. В Сочельник дом блестит, а обед не полагается - чай только, с сайками и маковыми подковками. Пошли всем домом ко всенощной - церковь сияет, все паникадила горят. После службы зашли к Горкину, у него кутья из пшенички, разогрелись «святынькой» и стали о божественном слушать.
В Зоологическом саду, где строят ледяной дом, кипит работа. Но Ваню туда не берут. Отправили поздравить Кашина, Ваниного крестного, с днем ангела. Он его не любит, говорит глаза у Кашина как «у людоеда». Но ничего не поделать. Крестный - уважить надо. Ваня с Горкиным поехал смотреть ледяной дом. Хрустальный замок, как будто в сказке. В небо взвились ракеты. Стены дворца отсвечивают голубым, зеленым, красным. Ледяной дом вышел просто чудо. Сергею Ивановичу - слава на всю Москву. Прибыли никакой, но всех порадовал.

Крестопоклонная неделя
В доме выпекают «кресты» - рассыпчатое печенье, а где поперечина креста, там малинки - будто гвоздиками прибито. Так повелось от прабабушки Устиньи - в утешение поста. «Кресты» Марьюшка делает с молитвой. Крестопоклонная неделя - священная, строгий пост. Много дурных предзнаменований в доме: Горкин с отцом видят нехорошие сны. Зацвел «змеиный цвет». Цветок этот еще деду преосвященный подарил. Дедушка в тот год и помер. Цветет он редко - раз в двадцать-тридцать лет. Матушка крестится: «Спаси нас, Господи».
Все держат пост. Ваня «говеет» впервые. Сладкого не ест, только сушки. Горкин ведет его в баню - «грехи смыть». В пятницу перед вечерей у всех надо просить прощения, а в церкви покаяться. Почему-то слезы к глазам подступили, когда Ваня отцу Виктору рассказывал о своих грехах: гусиную лапку позавидовал, осуждал большой живот протодиакона. Батюшка прочитал мальчику наставление, что завидовать и осуждать - грех. На душе стало легко-легко. После причащения Ваню все поздравляют.
Праздники в романе повторяются, ведь именно поэтому назвал его И. С. Шмелев «Лето Господне». Краткое содержание по главам показывает, что действия в романе происходят по кругу, следуя за циклом православного календаря. Получается своего рода круг - лето Господне.
Вербное воскресенье
Завтра Вербная суббота, а старик-угольщик не везет и не везет вербу. Горкин ахает: «Как без вербы-то?». Послали Антона. Повстречал он старика - сидит в овраге плачется - в санях оглобля сломалась. Вызволил их Антон. В дом принесли вербу богатую, вишнево-пушистую, вербешки на ней крупные, с орех. Горкин говорит, что в день этот Господь воскресил Лазаря. Вечная жизнь, значит, всем будет. Вот и радуемся.
За окном ликует Пасха - трезвонят колокола. Все возвращаются со службы. Дворника Гришку, за то, что не побывал на службе, окатили холодной водой. Усмехается: «Ну, покорюсь, братцы. Покорюсь. Дайте только пинжак скинуть».
В этом году Пасха поздняя - захватила Егорьев день. Прилетели первые ласточки. Ваня слушал, как старый пастух играл на рожке. Потом подошел пастухов работник, молодой парень, взял у него рожок - и разлилась такая жалостливая, переливчатая трель, что щемило сердце. Так бы и слушал. На неделе опять дурные предзнаменования. И Бушуй выл, нехорошо так выл. Горкин сказал, что собака не к добру воет.
Разбудил Ваню щебет-журчанье. Реполов его запел. Сегодня «усопший праздник», как говорит Горкин. Поедут на могилки, будут говорить усопшим: «Радуйтесь, скоро все воскреснем». Потому и Радуница. Поклонились могилкам, поехали домой. По пути завернули с трактир - чаю попить. Вошли кирпичники, стали рассказывать, что человека лошадь убила. Горкин стал выспрашивать, а ему даже фамилию назвали. Ванин отец. «Вот Бушуй-то, как чуял», - сказал Горкин и заплакал. Приехали домой, Василич сказал, что жив хозяин, только нельзя к нему, - голову льдом обложили, бредит.

Скорби. Болезнь отца
Один за другим, приходят гости. Приходят со всех концов Москвы, и бедные, и богатые. Все молятся за здоровье Сергея Ивановича. Отцу намного лучше. Делами пока не может управлять, все на Василь Василиче. Когда стало лучше, отец поехал в бани - окатиться холодной, «живой» водой. Так полагается - «смыть болезнь». Отец после бань действительно стал чувствовать себя намного лучше. Все его приветствуют, радуются, что он «жив-здоров».
Отец берет Ваню прогуляться по Москве. Какая радость! И Горкин с ними. Едут на Воробьевку. Отец долго-долго смотрит на город и губы его шепчут: «Это - Матушка-Москва». После «живой воды» отцу полегчало. Стал ездить на стройки. Как-то раз ему стало плохо - чуть с лесов не упал. Привез его домой Василич. Все в доме приуныли. Ваня слышал, как Михаил Панкратович сказал Василичу, что «болезнь воротилась». На Троицу ходили в церковь. Но радости не было.
Роман написан простым, народным слогом. И они так сочны и желанны в контексте такого народного, русского романа, как «Лето Господне». Краткое содержание (по главам) не может передать тот истинный свет и секреты русской души, как это делает автор, играя «неправильностями» и «искаженьицами», непереводимыми на другой язык.
Два дня, как стало отцу лучше. Даже обедал со всеми за столом. На третий день даже с кабинета не выходил - плохо ему стало. Привозили иконы Чудотворные разные, маслице от мощей - но отцу не лучше. Приезжали известные доктора, сказали, что операцию делать надо, голову вскрывать. У нас наука пока до этого не дошла. Из десяти - девять умирают. Остается молиться и уповать на волю Божию.
Вот и Спас-Преображение. Все несут отцу освященные яблочки. Пришел и Михаил Панкратович. «Бывало меняемся мы яблочками с папашенькой», - вспоминает, всхлипывая Горкин. И слезы катятся по его белой бородке.
Похороны
После Успенья как всегда солили огурцы. Только песен не пели - отцу совсем плохо. Ничего не ест. В день Ивана Богослова собрала матушка всех детей и отвела к отцу в спальню: «Дети здесь. Благослови их, Сереженька». Отец, чуть слышно сказал, что не видит. Матушка подводит детей, отец кладет каждому на голову руку и благословляет.
На Покров рубили капусту. Веселая пора. Но все знали, что сейчас не до веселья - хозяин совсем плох. На следующий день отца соборовали - приехали родные, собрались батюшки. Служат неторопливо. Ваня плачет, Горкин гладит ребенка по голове: «Не плачь, милок. Угодно будет Богу, все свидимся».
Отовсюду несут пироги, присылают поздравления. День рождения отца. Все перепуталось. Такое горе, а в дом пироги несут. Горкин говорит, что ничего плохого в том нет, ведь Сергей Иванович жив еще. Вот и несут - уважение выказать, да напоследок порадовать. Отец попил немного миндального молока. Ваня радуется: «Может лучше станет? У Бога всего много». И засыпает. Ему снится радостный сон. Утром Ваню будит Горкин: «Вставай, помяни батюшку». Мальчик понимает, что случилось что-то ужасное.
Зеркала в доме завешены. Так положено. Детей ведут в залу, к гробу - попрощаться с отцом. Ваня становится плохо. Когда мальчик пришел в себя, рядом сидел Горкин. Он и сказал Ване, что тот проспал сутки. Сегодня отца хоронят. Ваня идти не может, ножки слабые - не держат. Его заворачивают в одеяльце и несут к окошку, чтобы простился с отцом. Мальчик видит, как много людей пришло проводить отца. Крестится и шепчет - прощается...

Автор как будто говорит, что не надо страшиться смерти. И если он пережил кончину отца, то и утрата России не так страшна. Потому как «нетленное» утратить невозможно. Невозможно уничтожить идеал. Именно это показывает в своей книге Шмелев. Он изображает не просто этнографическую оболочку России, но людей, благочестиво хранящих Предание и знающих Священное Писание. Этим и отличается книга Ивана Сергеевича от других романов его соотечественников-эмигрантов. Его Россия неуничтожима так же, как и человеческая душа.
Даже из краткого содержания «Лета Господня» ясно, что книга связана с жизнью России. И в сцене похорон, когда автор пишет, что это прощание с родным домом, со всем, что было, - читатель понимает, что это также прощание с Россией.
© Михайлов О. Н., предисловие, 1997
© Михайлов О. Н., комментарии, 2004
© Бритвин В. Г., иллюстрации, 2004
© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2004
Об этой книге и ее авторе
Еще недавно, когда не существовало телевидения и «усталые игрушки» ложились спать самостоятельно, родители читали детям на ночь книжки – сказки, стихи, рассказы. Потом, с появлением радио, часть такой заботы взяли на себя актеры, в лицах рассказывавшие о «Малахитовой шкатулке» и Хозяйке Медной горы Бажова, о Коньке-горбунке Ершова или о чудесных приключениях Ашик-Кериба, сочиненных Лермонтовым.
В книгах «для маленьких» добро обязательно торжествовало над злом, плохое побивалось хорошим, бедный добряк наказывал жадного хапугу или даже самого царя, которого изображали глупым и злым.
Подрастая, мы с вами, однако, стали узнавать, что в жизни не все так просто, как в сказках и легендах. Несправедливость – частый гость на земле: богатый обижает бедного, сильный – слабого, и не только потом остаются безнаказанными, но и смеются над обманутыми. И немало таких, кто считает это естественным. Как же так? Отчего люди не боятся и не стыдятся обижать и обманывать друг друга? И почему так много несправедливости на земле, когда гибнет, поруганная, красота, когда умирают любимые люди, когда доброта и любовь часто не встречают понимания?
Оттого, что мир несовершенен.
Как поступать людям в таком мире, как вести себя, что делать, как относиться друг к другу, как сделаться – не за чужой счет – немножко более счастливым? Об этом думали писатели, создавая свои книги, в разные времена и в разных странах. И лучшие из этих писателей приходили к одному и тому же выводу, что существуют высшие силы – как в нас самих, так и вне нас, – которые только и способны помочь нам жить достойно, преодолевать невзгоды и испытания, творить добро ближнему, радоваться хорошему и отвергать дурное. Они писали книги, в которых «учительная сила» выступала ненавязчиво, незаметно, с глубокой верой в правоту того, что составляло для них смысл жизни. И произведений таких, право же, не так много.
«Лето Господне» Ивана Сергеевича Шмелева – одна из таких удивительных книг.
Это книга о семилетнем мальчике, его радостях и горестях, написанная далеко от Москвы, в которой он жил. Жестокие события революции 1917 года и Гражданской войны забросили автора, Ивана Сергеевича Шмелева, как и сотни тысяч его соотечественников, в эмиграцию, за рубеж. С 1922 по 1950 год, год своей кончины, писатель провел во Франции и там создал лучшие свои произведения – «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне».
Шмелев и раньше писал специально «для детей», «для юношества». В его рассказах было немало добра, света, юмора. Но, глядя на свою родную Россию «издалека», сквозь слезы пережитого (можно сказать, на его глазах в Крыму в 1920 году в числе многих тысяч белых офицеров был расстрелян его единственный сын), он стал искать опоры на чужбине в таких ценностях, которые – как он все более убеждался – были вечными.
Эти ценности он обрел в своем детстве.
Чтение родной литературы с дошкольных лет убедило, кажется, нас, что о детстве – поэтично, красочно, солнечно, одухотворенно – можно рассказывать лишь тогда, когда прошло оно в деревне или в усадьбе, на русском приволье, среди его волшебных превращений.
Аксаковские «Детские годы Багрова-внука», и «Детство» Льва Толстого, и «Жизнь Арсеньева» Бунина, и «Детство Никиты» Алексея Толстого – все они убеждают в этом.
Горожанин, москвич, коренной обитатель Замоскворечья – Кадашевской слободы, Шмелев опровергает эту традицию.
Нет, не нарывами на теле Земли возникали и устроялись наши города и мать их – Москва. Конечно, немало уродливого и прямо бесчеловечного было в ее недрах. И эти контрасты старой Москвы, увиденные глазами старого официанта, глубоко и проникновенно отразились в шмелевской повести 1911 года «Человек из ресторана». Но ведь было и иное, впитанное Шмелевым-ребенком. Посреди огромного города, «супротив Кремля», в окружении мастеровых и работников вроде умудренного филенщика Горкина, купцов и духовных лиц ребенок увидел жизнь, исполненную истинной поэзии, глубокой религиозности, патриотической одушевленности, доброты и несказанной душевной щедрости.
Здесь, без сомнения, истоки шмелевского творчества, здесь первооснова его художественных впечатлений.
Представьте себе карту старой Москвы.
Особое своеобразие придает городу Москва-река. Она подходит с запада и в самой Москве делает два извива, переменяя в трех местах нагорную сторону на низины. С поворотом течения с Воробьевых гор к северу высокий берег правой стороны, понижаясь у Крымского брода (ныне Крымского моста), постепенно переходит на левую сторону, открывая на правой, против Кремля, широкую луговую низину Замоскворечья .
Здесь, в Кадашевской слободе (когда-то населенной кадашами, то есть бочарами), 21 сентября (3 октября по новому стилю) 1873 года родился Иван Сергеевич Шмелев.
Москвич, выходец из торгово-промышленной среды, он великолепно знал этот город и любил его – нежно, преданно, страстно. Именно самые ранние впечатления детства навсегда заронили в его душу и мартовскую капель, и Вербную неделю, и «стояние» в церкви, и путешествие по старой Москве: «Дорога течет, едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы-доски. Дворники, в пиджаках, тукают о лед ломами. Скидавают с крыш снег. Ползут сияющие возки со льдом. Тихая Якиманка снежком белеет… Весь Кремль золотисто-розовый, над снежной Москвой-рекой… Что во мне бьется так, наплывает в глаза туманом? Это – мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы… Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой, над темными садами, – солнечный туманец тонкий, в нем колокольни-тени, с крестами в искрах – милое мое Замоскворечье» («Лето Господне»).
Москва жила для Шмелева живой и первородной жизнью, которая и по сей день напоминает о себе в названиях улиц и улочек, площадей и площадок, проездов, набережных, тупиков, сокрывших под асфальтом большие и малые поля, полянки, всполья, пески, грязи и глинища, мхи, дебри, или дерби, кулижки, то есть болотные места, и сами болота, кочки, лужники, вражки – овраги, ендовы – рвы, могилицы, а также боры и великое множество садов и прудов. И ближе всего Шмелеву оставалась Москва в том треугольнике, который образуется изгибом Москвы-реки с водоотводным каналом и с юга ограничен Крымским валом и Валовой улицей, – Замоскворечье, где проживало купечество, мещанство и множество фабричного и заводского люда. Самые поэтичные книги – «Богомолье» (1931) и «Лето Господне» (1933–1948) – о Москве, о Замоскворечье.
Племянница писателя Ю. А. Кутырина рассказывала, что Шмелев был среднего роста, тонкий, худощавый, с большими серыми глазами, владеющими всем лицом, склонными к ласковой усмешке, но чаще серьезными и грустными. Его лицо было изборождено глубокими складками-впадинами – от созерцания и сострадания. Лицо прошлых веков, пожалуй. Лицо старовера, страдальца.
Впрочем, так оно и было: дед Шмелева, государственный крестьянин из села Гуслицы Богородского уезда Московской губернии, – был старовер. Кто-то из предков был ярый начетчик, борец за веру: вступал еще при царевне Софье в «прях», то есть в спор о вере.
Прадед писателя жил в Москве уже в 1812 году и, как полагается кадашу, торговал посудным и щепным товаром. Дед продолжал его дело и брал подряды на постройку домов. О крутом и справедливом характере деда, Ивана Сергеевича, Шмелев вспоминал:
«На постройке коломенского дворца (под Москвой) он потерял почти весь капитал «из упрямства» – отказался дать взятку. Он старался «для чести» и говорил, что за стройку ему должны кулек крестов прислать, а не тянуть взятки. За это он поплатился: потребовали крупных переделок. Дед бросил подряд, потеряв залоговую стоимость работ. Печальным воспоминанием об этом в нашем доме оказался «царский паркет» из купленного с торгов и снесенного на хлам старого коломенского дворца.
– Цари ходили! – говаривал дед, сумрачно посматривая в щелистые рисунчатые полы. – В сорок тысяч мне этот паркет влез! Дорогой паркет!
После деда отец нашел в сундучке только три тысячи. Старый каменный дом да эти три тысячи – было все, что осталось от полувековой работы деда и отца. Были долги».
Особое место в детских впечатлениях, в благодарной памяти Шмелева занимает отец, Сергей Иванович, которому писатель посвящает самые проникновенные поэтические строки. Это, очевидно, было чертой фамильной: он и сам будет матерью единственному сыну Сергею. Собственную мать Шмелев упоминает в автобиографических книгах изредка и словно бы неохотно. Лишь отраженно, из других источников, узнаем мы о драме, с ней связанной, о детских страданиях, оставивших в душе незарубцевавшуюся рану. Так, жена писателя Бунина, Вера Николаевна, отмечает в дневнике: «Шмелев рассказывал, как его пороли, веник превращался в мелкие кусочки. О матери он писать не может, а об отце – бесконечно».
Вот отчего в шмелевской автобиографии и в позднейших «вспоминательных» книгах так много об отце.
«Отец не кончил курса в мещанском училище. С пятнадцати лет помогал деду по подрядным делам. Покупал леса, гонял плоты и барки с лесом и щепным товаром. После смерти отца занимался подрядами: строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжеств, держал портомойни на реке, купальни, лодки, бани (Шмелевым принадлежали известные до революции Крымские бани), ввел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинском. Кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества – для родственников. Но, должно быть, никто из родственников не пошел: эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики…
Я остался после него лет семи».
Семья отличалась патриархальностью, приверженностью старому укладу и истовой религиозностью («Дома я не видел книг, кроме Евангелия», – вспоминал Шмелев). Патриархальны, религиозны, как и хозяева, и преданны им были слуги. Ими помыкали и их же звали к хозяйскому столу в дни торжеств «на ботвинью с белорыбицей». Они рассказывали маленькому Ване истории об иноках и святых людях, сопровождали его в поездке в Троице-Сергиеву лавру – знаменитую обитель, основанную преподобным Сергием Радонежским («Богомолье»); они закладывали нравственные устои его характера. Шмелев посвятит одному из них, старому филенщику Горкину, лирические страницы воспоминаний детских лет.
Иной дух царил, однако, в замоскворецком дворе Шмелевых, куда со всех концов России стекались рабочие-строители. «Ранние годы, – вспоминал писатель, – дали мне много впечатлений. Получил я их «на дворе».
Мы встретим эту красочную разноликую толпу, представляющую собой, кажется, всю Россию, на страницах многих его книг, но прежде всего в «итоговых» произведениях, в том числе и в «Лете Господнем».
«В нашем доме, – рассказывал Шмелев, – появлялись люди всякого калибра и всякого общественного положения. Во дворе стояла постоянная толчея. Работали плотники, каменщики, маляры, сооружали и раскрашивали щиты для иллюминации. Приходили получать расчет и галдели тьма народу. Заливались стаканчики, плошки, кубастики. Пестрели вензеля. В амбарах было напихано много чудесных декораций с балаганом. Художники с Хитрова рынка храбро мазали огромные полотнища, создавали чудесный мир чудовищ и пестрых боев. Здесь были моря с плавающими китами и крокодилами, и корабли, и диковинные цветы, и люди с зверскими лицами, крылатые змеи, арабы, скелеты – все, что могла дать голова людей в опорках, с сизыми носами, все эти «мастаки и архимеды», как называл их отец. Эти «архимеды и мастаки» пели смешные песенки и не лазили в карман за словом. Слов было много на нашем дворе – всяких. Это была первая прочитанная мною книга – книга живого, бойкого и красочного слова.
Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиваньем и рубанки, и пилу, и топорик, и молоточки и учили, как «притрафляться» на досках, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурство. Дюжие руки ломовых таскали меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, гладили ласково по голове. Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в песне, которую пел рыжий маляр. «И эх и темы-най лес… да эх и темы-на-й…» Я любил украдкой забраться в обедающую артель, робко взять ложку, только что начисто вылизанную и вытертую большим корявым пальцем с сизо-желтым ногтем, и глотать обжигающие щи, крепко сдобренные перчиком.
Много повидал я на нашем дворе и веселого и грустного. Я видел, как теряют пальцы, как течет кровь из-под сорванных мозолей и ногтей, как натирают мертвецки пьяным уши, как бьются на стенках, как метким и острым словом поражают противника, как пишут письма в деревню и как их читают. Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог. Он делал то, чего не могли сделать такие, как и я, как мои родные. Эти лохматые на моих глазах совершали много чудесного. Висели под крышей, ходили по карнизам, спускались в колодезь, вырезали из досок фигуры, ковали лошадей, брыкающихся, писали красками чудеса, пели песни и рассказывали захватывающие сказки…
Во дворе было много ремесленников – бараночников, сапожников, скорняков, портных. Они дали мне много слов, много неподражаемых чувствований и опыта. Двор наш для меня явился первой школой жизни – самой важной и мудрой. Здесь получились тысячи толчков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ребенка, глазами».
Из закромов памяти пришли Шмелеву впечатления детства, составившие «Лето Господне», совершенно удивительную книгу по поэтичности, духовному свету, драгоценным россыпям слов.
Конечно, мир «Лета Господня» – мир Горкина, бараночника Феди и богомольной Домны Панферовны, старого кучера Антипушки и приказчика Василь Василича, «облезлого барина» Энтальцева и солдата Махорова «на деревянной ноге», колбасника Коровкина, рыбника Горностаева, птичника Солодовкина и «живоглота» – богатея крестного Кашина, – этот мир одновременно и не существовал и был, преображенный в слове. И эпос шмелевский, поэтическая мощь от этого только усиливаются.
«Шмелев никогда не заимствует канву для своей фабулы у внешнего порядка событий. Он не нуждается в этом. Фабула его произведений развертывается самостоятельно из самого предметного содержания. Но в книге «Лето Господне. Праздники» он строит свою фабулу как бы на внешней эмпирической последовательности времен, а в сущности идет вослед за календарным годом русского Православия.
Годовое вращение, этот столь привычный для нас и столь значительный в нашей жизни ритм жизни, имеет в России свою внутреннюю, сразу климатически бытовую и религиозно-обрядовую связь. И вот в русской литературе впервые изображается этот сложный организм, в котором движение материального солнца и движение духовного религиозного солнца срастаются и сплетаются в единый жизненный ход. Два солнца ходят по русскому небу: солнце планетное, дававшее нам бурную весну, каленое лето, прощальную красавицу осень и строго-грозную, но прекрасную и благодатную белую зиму, – и другое солнце, духовно-православное, дававшее нам весною – праздник светлого, очистительного Христова Воскресения, летом и осенью – праздники жизненного и природного благословения, зимою, в стужу, – обетованное Рождество и духовно-бодрящее Крещение. И вот Шмелев показывает нам и всему остальному миру, как ложилась эта череда двусолнечного вращения на русский народно-простонародный быт и как русская душа, веками строя Россию, наполняла эти сроки Года Господня своим трудом и своей молитвой. Вот откуда это заглавие «Лето Господне», обозначающее не столько художественный предмет, сколько заимствованный у двух Божиих Солнц строй и ритм образной смены».
«Лето Господне» – книга для семейного чтения. Ее лучше всего читать в добрых старых традициях – вечерами, вслух, на пользу не только детям, но и самим родителям, главу за главой. Это пища для ума и сердца и ребенку, и подростку, и юноше, и взрослому человеку. Ибо никогда не поздно подумать над тем, над чем понуждает думать Иван Сергеевич Шмелев: над предназначением маленького человека, вступающего в этот мир.
Олег Михайлов
I. Праздники
Наталии Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным посвящаю.
Два чувства дивно близки нам -
В них обретает сердце пищу -
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
А. Пушкин

Великий пост

Чистый понедельник
Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник-филенщик Горкин сказал вчера, что Масленица уйдет – заплачет. Вот и заплакала – кап… кап… кап… Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник «масленицы» – игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок – пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», – Горкин вчера рассказывал: «Душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому дню готовиться.
– Косого ко мне позвать! – слышу я крик отца, сердитый.
Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, – редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был Прощеный день. И Василь Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках: «Всех прощаю!» Почему же кричит отец?
Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, Масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар – священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный… – так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.
– Вставай, милок, не нежься… – ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. – Где она у тебя тут, Масленица-жирнуха… мы ее выгоним. Пришел пост – отгрызу у волка хвост. На Постный рынок с тобой поедем, васильевские певчие петь будут – «Душе моя, душе моя», – заслушаешься.
Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный – тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое – Чистый сегодня понедельник! – только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Знаю, что он святой. Такие – угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью и весь пост будет с ними пить чай – «за сахар».
– А почему папаша сердитый… на Василь Василича так?
– А, грехи… – со вздохом говорит Горкин. – Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли… по закону-то! Читай: «Господи Владыко живота моего». Вот и будет весело.
В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли «постную», голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец – по субботам он сам зажигает все лампадки, – всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», – и я напеваю за ним, чудесное:
И свято-е… Воскресе-ние Твое
Сла-а-вим!
Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне, за вереницею дней поста, – Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым светом светит в эти грустные дни поста.
Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается и надо готовиться к той жизни, которая будет. Где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом – другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь – «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет: «Увы мне, окаянная я!» Так и в ефимонах теперь читается.