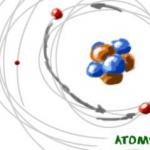Сочинение Лермонтов М.Ю. - Мцыри
Тема: - Духовный мир Мцыри (По поэме М. Ю. Лермонтова "Мцыри")
В 1837 году М. Ю. Лермонтов был сослан на Кавказ.Проезжая по Военно-Грузинской дороге, он увидел остатки существовавшего когда-то монастыря. Там, среди развалин и могильных плит, он увидел дряхлого старика, который рассказал поэту о своей судьбе. Будучи ребенком, он попал в плен. Мальчик тосковал по родине и страстно мечтал вернуться. Но рутинная жизнь монастыря постепенно приглушила тоску. Пленник втянулся в однообразную жизнь послушника и так и не смог осуществить заветную мечту. М. Ю. Лермонтов в течение десяти лет до этого события вынашивал идею создания поэмы об иноке, рвущемся на свободу. И рассказ старика был настолько созвучен с мыслями поэта, что помог воплотить замысел в замечательную поэму "Мцыри". Только в отличие от прототипа, Мцыри хотя бы сделал попытку вырваться из прочных стен устоявшейся монастырской жизни.
Повествование ведется в форме монолога, поэтому читатель особенно остро ощущает отчужденность мальчика, его отстраненность от дел житейских, его воспоминания о родине - теплой, яркой, светлой, не идущей ни в какое сравнение с серой, тихой, угрюмой жизнью в теперешней его обители. В первой главе поэмы особенно видны трагические противоречия между душевной силой юноши и жизненными обстоятельствами, загнавшими его в тесные рамки монастырской жизни.
И вот, когда юноша должен принять обет, под покровом ночи он исчезает. Он отсутствует три дня. Его находят изможденным и обессиленным. "И близок стал его конец;/ Тогда пришел.к нему чернец". Начинается предсмертная исповедь - одиннадцать глав, повествующих о трех днях свободы, вместивших всю трагедию и все счастье его жизни. Исповедь Мцыри превращается в проповедь, спор с духовником о том, что добровольное рабство ниже, чем "чудесный мир тревог и битв", открывающийся свободой. Мцыри не раскаивается в содеянном, не говорит о греховности своих желаний, мыслей и поступков. Как сон, перед Мцыри встал образ отца, сестер, и он попытался найти дорогу домой. Три дня он жил и наслаждался дикой природой. Он наслаждался всем, чего был лишен, - гармонией, единением, братством. Девушка-грузинка, встретившаяся ему, тоже часть свободы и гармонии, слившейся с природой, но он сбивается с дороги домой.
На своем пути Мцыри встретил барса. Юноша уже ощутил всю силу и радость свободы, увидел единство природы и вступает в бой с одним из ее творений. Это было равное соперничество, где каждое живое существо отстаивало право делать то, что предписано ему природой. Мцыри победил, получив при этом смертельные раны от когтей барса.
Его находят в бессознательном состоянии. Придя в себя, Мцыри не страшится смерти, он опечален лишь тем, что его не похоронят в родной земле.
Мцыри, увидевший красоту жизни, не жалеет о кратковременности своего пребывания на земле, он осуществил попытку вырваться из пут, его дух не сломлен, в умирающем теле живет свободная воля.
М. Ю. Лермонтов этой поэмой дал понять нам, что стремления людей выполнимы, надо только страстно желать чего-нибудь и не бояться сделать решительный шаг. Многие, как повстречавшийся Лермонтову старик, не находят в себе сил совершить попытку вернуть себе свободу.
МЦЫРИ
Картина развалин монастыря в Грузии.
Русский генерал везет с собой пленного ребенка лет шести «из гор к Тифлису».
Тот в пути занемог, «он знаком пищу отвергал и тихо, гордо умирал». Один из
монахов оставляет мальчика у себя. Тот вначале живет в стороне от всех, «бродил
безмолвен, одинок, смотрел, вздыхая, на восток». Его окрестили, скоро он должен
принять монашеский обет. Но однажды осенней ночью юноша исчезает. Три дня его
ищут, потом «в степи без чувств нашли». Мцыри слаб, худ и бледен, «как будто
долгий труд, болезнь иль голод испытал». «И близок стал его конец, тогда пришел
к нему чернец». Мцыри исповедуется: «Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни
за одну я променял бы, если б мог».
Его душа звала «в тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где
люди вольны, как орлы». ^
Мцыри не просит о прощении, говорит, что смерть его не страшит, спрашивает,
зачем старик спас его от смерти еще в детстве. "
Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ - могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! Теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я как жил в земле чужой,
Умру рабом и сиротой.
Затем добавляет, обращаясь к старику:
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб и сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, я также мог бы жить!
Мцыри рассказывает, что он видел на воле - пышные поля, зеленые холмы, темные
скалы, а вдали, сквозь туман, покрытые снегом горы своей далекой отчизны. Мцыри
говорит, что убежал из монастыря ночью в грозу. В то время как распростертые на
земле монахи молят бога защитить их от опасности, бурное сердце Мцыри живет в
дружбе с грозой. Как сон, проносятся перед ним воспоминания о родных горах,
встает образ отца, отважного воина с гордым взором. Мцыри представляется звон
его кольчуги, блеск оружия. Вспоминает Мцыри и песни своих юных сестер и решает
во что бы то ни стало найти путь домой. «Ты хочешь знать, что делал я на воле?
Жил - и жизнь моя без этих трех блаженных дней была б печальней и мрачней
бессильной старости твоей». На воле Мцыри любуется дикой природой, спускается р
горному потоку, чтобы утолить жажду, видит молодую прекрасную грузинку. Ее
«мрак очей был так глубок, так полон тайнами любви, что думы пылкие мои
смутились...» Девушка исчезает. Мцыри засыпает и видит ее во сне. Проснувшись,
продолжает путь, сбивается с дороги. На поляне видит барса, вступает с ним в
бой, побеждает его. «Но нынче я уверен в том, что быть бы мог в краю отцов не
из последних удальцов». Сражаясь с барсом, Мцыри сам становится подобен дикому
зверю: «Как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков». Мцыри уважает
своего противника: «Он встретил смерть лицом к лицу, как в битве следует
бойцу!» Тело Мцыри изодрано когтями барса, поэтому Мцыри понимает, что до
родного дома ему уже не добраться и суждено погибнуть «во цвете лет, едва
взглянув на божий свет» и «унесть в могилу за собой тоску по родине святой» .
Мцыри впадает в беспамятство. Его находят. Мцыри не страшится смерти, опечален
лишь тем, что его не похоронят в родной земле. «Увы! - за несколько минут между
крутых и темных скал, где я в ребячестве играл, я б рай и вечность променял...»
Просит похоронить его в саду, откуда «виден и Кавказ».
Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой — и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.
___
И божья благодать сошла
На Грузию! Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
3а гранью дружеских штыков.
Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести,
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.
Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток,
Гоним неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли
И вновь в обитель принесли.
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал
И с каждым днем приметно вял.
И близок стал его конец;
Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:
«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Все лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать,
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.
Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас —
Зачем? .. Угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен, —
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. И видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ — могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.
Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод… Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,
Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл; ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, — я также мог бы жить!
Ты хочешь знать, что видел я
На воле? — Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой,
Как братья в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял.
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их,
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года —
Им не сойтиться никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег —
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих, как алмаз,
Седой незыблемый Кавказ;
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней…
И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножон
Кинжалов длинных… и как сон
Все это смутной чередой
Вдруг пробегало предо мной.
А мой отец? он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,
И гордый непреклонный взор,
И молодых моих сестер…
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей…
В ущелье там бежал поток.
Он шумен был, но неглубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они перед дождем
Волны касалися крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,
Как жили люди прежних дней,
Когда был мир еще пышней.
Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил — и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил…
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..
Бежал я долго — где, куда?
Не знаю! ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только! Много я часов
Бежал, и наконец, устав,
Прилег между высоких трав;
Прислушался: погони нет.
Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж темным небом и землей,
И различал я, как узор,
На ней зубцы далеких гор;
Недвижим, молча я лежал,
Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей.
Внизу глубоко подо мной
Поток усиленный грозой
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудою камней.
То вдруг стихал он, то сильней
Он раздавался в тишине;
И вот, в туманной вышине
Запели птички, и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листы;
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню
Я поднял голову мою…
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.
Кругом меня цвел божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой
И снова я к земле припал
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Всуе, что я чувствовал тогда,
Те думы — им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал.
И жаждой я томиться стал.
Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал. Из-под ног
Сорвавшись, камень иногда
Катился вниз — за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не страшна!
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг — голос — легкий шум шагов…
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал:
И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.
Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.
И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон, — когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох… больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише, — но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь…
И затворилася опять! ..
Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог, — мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.
Трудами ночи изнурен,
Я лег в тени. Отрадный сон
Сомкнул глаза невольно мне…
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть —
И пробудился. Уж луна
Вверху сияла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Как за добычею своей,
Объятья жадные раскрыв.
Мир темен был и молчалив;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонек
То трепетал, то снова гас:
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!
Хотелось мне… но я туда
Взойти не смел. Я цель одну —
Пройти в родимую страну —
Имел в душе и превозмог
Страданье голода, как мог.
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.
Напрасно в бешенстве порой
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом:
Все лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста.
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева;
Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горючею росой…
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал… Я был чужой
Для них навек, как зверь степной;
И если б хоть минутный крик
Мне изменил — клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.
Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный лес
Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг во ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры… и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость —
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, — и на нем
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови… да, рука судьбы
Меня вела иным путем…
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.
Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный как стон
Раздался вдруг… и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертью грозил…
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек…
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!
Ко мне он кинулся на грудь:
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье… Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык…
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз…
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно — и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..
Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной…
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной!
Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез
В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал…
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком.
И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,
И все зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..
Еще в сомненье погружен,
Я думал — это страшный сон…
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине —
И тут все ясно стало мне…
О, я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слез, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца — будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.
Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь, в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь…
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила… Таков цветок
Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых,
И долго листьев молодых
Не распускал, все ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печально тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон
Дышала сладость бытия…
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок…
И как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу:
Иссохший лист ее венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры, с белых скал
Струился пар. Мир божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.
Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячий лепет… Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок.
Скользила бережно, потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То, будто вдруг обожжена,
Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах…
И было все на небесах
Светло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернели две горы.
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатою стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко…
До них мне было далеко!
Хотел я встать — передо мной
Все закружилось с быстротой;
Хотел кричать — язык сухой
Беззвучен и недвижим был…
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред. Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки — и была
Кругом таинственная мгла.
И, жажду вечную поя,
Как лед холодная струя,
Журча, вливалася мне в грудь…
И я боялся лишь заснуть, —
Так было сладко, любо мне…
А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне.
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны…
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась
Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок…
И надивиться я не мог:
Ее сребристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.
Он говорил: «Дитя мое,
Останься здесь со мной:
В воде привольное житье
И холод и покой.
Я созову моих сестер:
Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
И дух усталый твой.
Усни, постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.
О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
Люблю как жизнь мою…»
И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливала тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред
Бессилью тела уступил…
Так я найден и поднят был…
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил. Верь моим словам
Или не верь, мне все равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.
Прощай, отец… дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне…
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой…
Но что мне в том? — пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют…
Увы! — за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял…
Когда я стану умирать,
И, верь, тебе не долго ждать,
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста…
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком…
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну..
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!…»
Анализ поэмы «Мцыри» Лермонтова
Поэма «Мцыри» — одно из наиболее известных произведений Лермонтова. В ней поэт смог с удивительным художественным мастерством изобразить природу Кавказа. Не менее ценно смысловое содержание поэмы. Она представляет собой монолог романтического героя, погибающего в борьбе за свободу.
Создание поэмы имеет долгую предысторию. Замысел истории возник у Лермонтова при чтении «Шильонского узника» Байрона. Он последовательно разрабатывает его в стихотворении «Исповедь» и поэме «Боярин Орша». Впоследствии автор целиком перенесет некоторые строки из этих произведений в «Мцыри». Непосредственным источником для поэмы становится история, которую узнал Лермонтов в Грузии. Пленный ребенок-горец был отдан на воспитание в монастырь. Обладая непокорным характером, ребенок несколько раз пытался сбежать. Одна из таких попыток чуть не закончилась его гибелью. Мальчик смирился и дожил до глубокой старости монахом. Лермонтова очень заинтересовала история «Мцыри» (в пер. с груз. – послушник). Он воспользовался прошлыми наработками, добавил элементы грузинского фольклора и создал оригинальную поэму (1839 г).
Сюжет поэмы полностью повторяет историю монаха за исключением одной важной детали. В реальности мальчик выжил, а в произведении Лермонтова окончательная точка не поставлена. Ребенок находится при смерти, весь его монолог является прощанием с жизнью. Только его гибель представляется закономерным финалом.
В образе дикого с точки зрения цивилизации ребенка перед нами предстает романтический герой. Он недолго наслаждался свободной жизнью среди своего народа. Захват в плен и заточение в монастырь лишают его возможности ощутить красоту и великолепие бесконечного мира. Врожденное чувство независимости делает его немногословным и нелюдимым. Его главным желанием становится побег на родину.
Во время бурной грозы, воспользовавшись страхом монахов, мальчик убегает из монастыря. Ему открывается прекрасная картина нетронутой человеком природы. Под этим впечатлением к мальчику приходят воспоминания о своем горном ауле. Это подчеркивает неразрывную связь патриархального общества с окружающим миром. Такая связь безвозвратно утрачена современным человеком.
Ребенок принимает решение добраться до родного очага. Но он не может отыскать дорогу и понимает, что заблудился. Схватка с барсом – необычайно яркая сцена поэмы. Ее фантастичность еще более подчеркивает индивидуализм главного героя, его гордый и непреклонный дух. Полученные раны лишают мальчика последних сил. Он с горечью осознает, что вернулся туда, откуда пришел.
Разговаривая со старцем, главный герой нисколько не жалеет о своем поступке. Три дня, проведенные на свободе, стоят для него всей жизни в монастыре. Его не страшит смерть. Существование в неволе представляется мальчику невыносимым, особенно потому, что он ощутил на себе сладость вольной жизни.
«Мцыри» — выдающееся произведение русского романтизма, которое можно отнести к шедеврам мировой классики.
"Я видел сон, который не совсем был сон..."
"Мцыри" - романтическая поэма Лермонтова. А романтическая поэма всегда гиперболична, то есть построена по законам "дерзкой мечты", поэтому она не боится никаких преувеличений. В ее сюжете всегда есть элемент чуда, есть и причудливая игра воображения, которая свидетельствует о "могучем духе героя". Я опущусь на дно морское, Я полечу за облака, - говорит Демон. И говорит он это не только как Демон, но и как герой романтической поэмы, для которого нет никаких преград ни во времени, ни в пространстве.
Романтики создали в поэзии настоящий культ мечты, возвысили мечтателей, зачислив в их сонм и самого Демона. Оказалось, что мечты обольщают "гордый ум" безумными надеждами, радужными перспективами, но не обещают непременной и безусловной победы над действительностью. Мечта и действительность - это "зеркальный мир" романтизма; но отражения "зеркала в зеркале", в "обратной перспективе" создают загадочную, таинственную глубину "мечтательного мира". В этом мире возможны видения, прозрения, пророчества, которые похожи на сны наяву. Мечта романтического героя вызывает в нем необыкновенный прилив сил, заставляет его воображение работать с удвоенной, с удесятеренной силой.
Но в случае поражения расплата за "безумные мечты" бывает тяжкой, когда герой остается один "без упованья и любви". "И проклял Демон побежденный мечты безумные свои..." В романтической поэме Лермонтова есть это искушение "безумной мечты" и "безмерного отчаяния", равно знакомые и "древнему Демону", и юному Мцыри. В поэме "Мцыри" отчетливо обозначены демонические черты в характере героя и п его мечтах, в его победах и поражениях, в дерзких поступках. Он выходит "на край", проходит "по краю", останавливается "на краю": на краю Грозящей бездны я лежал, Где выл, крутясь, сердитый вал; Туда вели ступени скал; Но лишь злой дух по ним шагал. Но Мцыри знал не одну, а две бездны. В одной из них Демон, "поверженный с небес", в "подземной пропасти исчез": она была тесна и мрачна, как погибель.
Другая была бесконечна, наполнена светом и теплом и могла одна своей синевой спасти героя от безотрадного отчаяния: В то утро был небесный свод Так чист, что ангела полет Прилежный взор следить бы мог; Он так прозрачен был, глубок, Так полон ровной синевой... Между этими двумя безднами, чувствуя притяжение и той и другой стихии, приходит "смиренный послушник", в сердце которого бушуют тайные силы бунта и мятежа. Ночь и луна имеют на него магическое влияние. Что-то в нем есть и лунатическое, может быть, им самим неосознаваемое.
Я долго силился вздохнуть -
И пробудился.
Уж луна Вверху сияла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Как за добычею своей.
Даже пейзажи в поэме о Мцыри, нарисованные им самим, имеют фантастический колорит, потому что они созданы его "больным воображением".
Все, о чем рассказывает Мцыри в своей исповеди (а вся поэма, по существу, есть одна горячая и искренняя исповедь героя), совершается ночью, когда все спят. Никто не видел, как он ушел из монастыря, никто не был свидетелем его встречи с барсом, единоборства и победы над ним, разве только одна луна или "месяц, плывший средь небес". Ночь и одиночество в ночи - это участь романтического героя, участь Мцыри. Ведь это слово обозначает не только "послушника", но и "чужака". Поэтому он "не желал" "помогли людской": "Я был чужой для них навек, как зверь степной..." И в нем есть это природное, дикое, стихийное начало, заставляющее его бежать из монастыря, когда он чувствует себя "удальцом", освобождаясь от "оков" духовности.
Но путь, который увлекает его, - это путь без цели. "Бежал я долго, где? куда? не знаю. Ни одна заезда не озаряла трудный путь". Чего же он хотел? "Мне было весело вдохнуть в мою измученную грудь ночную свежесть тех лесов - и только..." Его " вольная душа", душа дикаря и удальца, хотела узнать, "для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы", жаждала воли. И он нашел эту волю... Но прежде надо разобраться, что именно он называл тюрьмой. Горский мальчик, осиротевший во время войны, находит приют в христианском монастыре.
Жизнь среди чужих людей кажется ему "пленом" и даже сам монастырь представляется "тюрьмой". Грозой оторванный листок, Я вырос в сумрачных стенах, Душой дитя, судьбой монах. Детская душа хранила глубокие детские обиды сиротства и одиночества, а может быть, и непризнанного поэтического дара, как это было в судьбе самого Лермонтова. Ведь исповедь Мцыри говорит о том, что он был поэтом и не годился в монахи. В его исповеди много поэзии, много лирики, много "картин", но совсем почти нет духовной глубины. В последней исповеди он говорит о себе:
"И я, как жил в земле чужой, умру рабом и сиротой..."
Между тем он не был "рабом", а жил среди братии.
Один из них, когда мальчика только что привезли в монастырь больного и умирающего, пожалел его, "больного призрел", выходил его. И в стенах Хранительных остался он, Искусством дружеским спасен. "Хранительные стены" и "тюремные стены" - разные вещи. Мальчик выздоровел, "стал понимать язык чужой", "был окрещен святым отцом". Так прошли годы. И теперь "во цвете лет" он хотел уже " изречь монашеский обет". Хотя его тревожила какая-то другая судьба, которая заставляла его искать "волю"..
Но "изречь монашеский обет" означало принять "чужую судьбу", к которой Мцыри не чувствовал себя призванным и предназначенным. И вот все, что он заглушал в себе в течение многих лет, что заглушала п нем и размеренная и благочинная монастырская жизнь, вдруг воскресло в нем с умноженной силой. В те годы, когда он готовился стать монахом, его сверстники в далеких аулах садились на коней, уходили в абреки, жили как вольные наездники или разбойники. И Мцыри почувствовал раздвоение души. Он был в одно и то же время послушник, завтрашний чернец, и дикий горец, похожий на Азамата из "Героя нашего времени ".
Как ему было жить с такой двойной душой? Он чувствовал отчуждение от братий, но он еще не успел понять, какое отчуждение ждет его среди родичей, после столь долгого отсутствия. Сюжет поэмы "ускользает" то в прошлое, то в будущее. А эпиграф из "Книги царств" указывает на быстротечность жизни: Вкушая, вкус их мало меда, и се аз умираю..." Его побег сопровождался грозными предзнаменованиями. Над горами шла гроза. Но это лишь прибавляло ему силы и дерзости, он готов был помериться силами с самой природой. Я убежал.
О, я как брат Обняться с бурей был бы рад! Глазами тучи я следил, Руками молнии ловил... Оставив братий по монастырю, он находит или видит братьев по стихиям в тучах, молниях и самой грозе. Когда он жил в монастыре, ему казалось, что горы очень близко, что до них можно дотянуться рукой, если подняться на высокую угловую башню. Но оказалось, что они очень далеко. Он, кажется, и не дошел до них.
Во всяком случае монахи три дня искали его в горах и не нашли. "Темный лес тянулся по горам кругом..." И вдруг увидели его в степи, чуть ли не у самых стен монастыря, куда он вернулся или, может быть, откуда не уходил никогда. "Его п степи без чувств нашли, и вновь в обитель принесли..." Он был болен, как в детстве когда-то, когда впервые переступил порог монастыря. И вновь к его одру приблизился чернец "с увещеваньем и мольбой", может быть, тот самый, который спас его от смерти однажды. И Мцыри, дотоле не отвечавший на вопросы, исповедовался перед чернецом и благодарил его за то, что он пришел выслушать его. Он готов был признать за собой грехи действительные и мнимые, но первым его словом было "детское" оправдание: "людям я не делал зла..." Так что же видел Мцыри на юле? Во-первых, он видел горы. И они показались ему одушевленными:
Я видел груды темных скал,
когда поток их разделял,
И думы их я угадал,
Мне было свыше то дано.
Мцыри проговаривается на каждом слове. Он говорит и рассуждает, как поэт: "То было свыше мне дано..." К тому же он признается, что "видел горные хребты, причудливые, как мечты. Может быть, это и была мечта, а не горы сами по себе. Он видел образ любви, перед которым не смел поднять глаз, лишь издали слушая песню девушки, сходившей узкой тропинкой к роднику, "держа кувшин на голове". Он видит псе ее движения как наяву: Порой Она скользила меж камней, Смеясь неловкости своей. Но, впрочем, может быть, это тоже было лишь сном, если сам Мцыри вспоминает о ней, как о видении: Отрадный сон Сомкнул глаза невольно мне, И снова видел я во сне Грузинки образ молодой... Видел он также образ зверя, которому смело пошел навстречу, сразился с ним, как рыцарь с силой зла, и победил его.
Никто не видел этой битвы:
"Кто видеть мог?
Лишь темный лес да месяц, плывший средь небес".
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков...
Монастырский служка, побеждающий в единоборстве барса, - такое могло присниться только во сне, возникнуть в разгоряченном романтическом воображении. Но это нисколько не смущает Мцыри, для которого мечта если не важнее, то во всяком случае дороже действительности: "Верь моим словам или не верь, мне все равно..." Недаром Мцыри вслед за сценой единоборства с барсом рассуждает о правде и силе детских снов: Про милых ближних и родных, Про волю дикую степей, Про легких бешеных коней, Про битвы чудные меж скал. Где всех один я побеждал] Но правда также и то, что все они, эти сны, такие яркие и неотразимые, рассеивались без следа при первом же звуке монастырского колокола: "Он с детских глаз уже не раз сгонял виденья снов живых..." Наконец, он видел образ смерти в обличий русалки "с золотой чешуей". Она искушала его вечными снами, звала за собой в глубину волн, смотрела на него зелеными глазами: "И надивиться я не мог..." Русалка пела ему нежную колыбельную: Усни, постель твоя мягка, Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов...
Что же это все было? "То жар бессильный и пустой, игра мечты, болезнь ума..." - говорит Мцыри о видениях, которые преследуют его воображение. Он говорит и мыслит, как поэт, и этим похож на Лермонтова. Мцыри ясно видит все то, что ему снится, или все то, о чем он мечтает. Глядя на чернеца, принимающего его последнюю исповедь , он чувствует "ветер с гор" и ему кажется, что это брат или друг приблизились к нему, "внимательной рукой" прикоснулись к его лицу; и чей-то голос тихонько поет ему песню "про милую страну"... Зрительные образы преобладают в речах Мцыри.
Он просит исполнить его последнюю волю и перенести его "в наш сад", похоронить там, "где цвели акаций белых два куста": "И с той мыслью я засну и никого не прокляну", - говорит Мцыри. Лермонтов написал сложную монастырскую поэму с идеями бунта и смирения. Недаром его творчество так тревожило и занимало Достоевского. Лермонтов и сам знал силу этих снов наяву. У него была даже формула заклинания их призрачной власти:
Не верь, не верь себе, мечтатель молодой,
Как язвы, бойся вдохновенья...
Оно - тяжелый бред души твоей больной, Иль пленной мысли раздраженъе. "Раздражение пленной мысли" сыграло роковую роль в судьбе Мцыри. Он тосковал о том, что его "темное имя" останется неизвестным, как только может тосковать об этом безвестный поэт. И действительно, у него нет имени - только прозвание - "мцыри", "послушник", "чужак". И только какой-нибудь старый монах, стирающий пыль "с могильных плит", будет помнить его... Мцыри все знал о своей судьбе точно так же, как Лермонтов не только знал, но и видел свою смерть и описал ее в стихотворении "Сон": "В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я..." Пророчество Лермонтова сопоставимо лишь с исповедью Мцыри. Владимир Соловьев говорил даже о "сомнамбулическом" состоянии поэта, который способен так ясно видеть то, что с ним происходит в настоящую минуту и что произойдет в будущем. "Та удивительная фантасмагория, которою увековечено это видение в стихотворении "Сон", не имеет ничего подобного во всемирной поэзии", - пишет В.С.Соловьев.
Исповедь Мцыри звучит иносказательно, как исповедь Лермонтова, когда он говорит о своей романтической "мономании: "Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть..." Эти слова горят, как надпись на медали с изображением Лермонтова. Под "темным именем" Мцыри скрыто светлое имя Лермонтова. Он знал псе тревоги и надежды Мцыри, знал, что этот мальчик, похожий на "тростник" ("И слаб, и гибок, как тростник") был "мыслящий тростник" и потому оказался достойным героем романтической поэмы, где облака проходят, как сны, "как будто белый караван залетных птиц из дальних стран"...
Картина развалин монастыря в Грузии.
Русский генерал везет с собой пленного ребенка лет шести «из гор к Тифлису». Тот в пути занемог, «он знаком пищу отвергал и тихо, гордо умирал». Один из монахов оставляет мальчика у себя. Тот вначале живет в стороне от всех, «бродил безмолвен, одинок, смотрел, вздыхая, на восток». Его окрестили, скоро он должен принять монашеский обет. Но однажды осенней ночью юноша исчезает. Три дня его ищут, потом «в степи без чувств нашли». Мцыри слаб, худ и бледен, «как будто долгий труд, болезнь иль голод испытал». «И близок стал его конец, тогда пришел к нему чернец». Мцыри исповедуется: «Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни за одну я променял бы, если б мог».
Его душа звала «в тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы».
Мцыри не просит о прощении, говорит, что смерть его не страшит, спрашивает, зачем старик спас его от смерти еще в детстве.
Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ - могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! Теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я как жил в земле чужой,
Умру рабом и сиротой.
Затем добавляет, обращаясь к старику:
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб и сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, я также мог бы жить!
Мцыри рассказывает, что он видел на воле - пышные поля, зеленые холмы, темные скалы, а вдали, сквозь туман, покрытые снегом горы своей далекой отчизны. Мцыри говорит, что убежал из монастыря ночью в грозу. В то время как распростертые на земле монахи молят бога защитить их от опасности, бурное сердце Мцыри живет в дружбе с грозой. Как сон, проносятся перед ним воспоминания о родных горах, встает образ отца, отважного воина с гордым взором. Мцыри представляется звон его кольчуги, блеск оружия. Вспоминает Мцыри и песни своих юных сестер и решает во что бы то ни стало найти путь домой. «Ты хочешь знать, что делал я на воле? Жил - и жизнь моя без этих трех блаженных дней была б печальней и мрачней бессильной старости твоей». На воле Мцыри любуется дикой природой, спускается р горному потоку, чтобы утолить жажду, видит молодую прекрасную грузинку. Ее «мрак очей был так глубок, так полон тайнами любви, что думы пылкие мои смутились...» Девушка исчезает. Мцыри засыпает и видит ее во сне. Проснувшись, продолжает путь, сбивается с дороги. На поляне видит барса, вступает с ним в бой, побеждает его. «Но нынче я уверен в том, что быть бы мог в краю отцов не из последних удальцов». Сражаясь с барсом, Мцыри сам становится подобен дикому зверю: «Как будто сам я был рожден в семействе барсов и волков». Мцыри уважает своего противника: «Он встретил смерть лицом к лицу, как в битве следует бойцу!» Тело Мцыри изодрано когтями барса, поэтому Мцыри понимает, что до родного дома ему уже не добраться и суждено погибнуть «во цвете лет, едва взглянув на божий свет» и «унесть в могилу за собой тоску по родине святой» . Мцыри впадает в беспамятство. Его находят. Мцыри не страшится смерти, опечален лишь тем, что его не похоронят в родной земле. «Увы! - за несколько минут между крутых и темных скал, где я в ребячестве играл, я б рай и вечность променял...» Просит похоронить его в саду, откуда «виден и Кавказ».